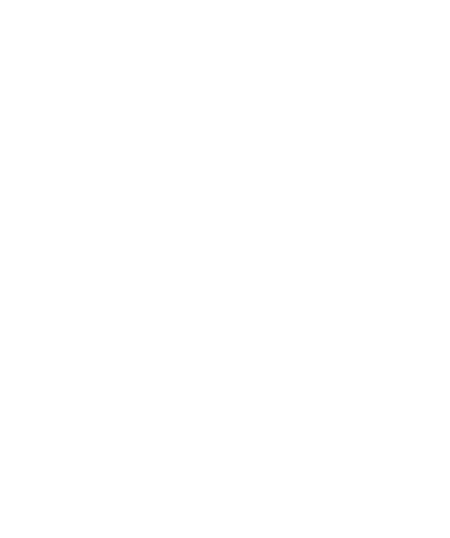Article
Балбир Мадхопури. Тернистый путь (глава из автобиографии «Обрубленное дерево»)
Annotation
| DOI | 10.31696/2618-7302-2020-4-233-246 | |
|
|
published | |
| Author(s) | ||
| Magazine | ||
| Section | Исторические науки и археология//Переводы и комментарии | |
| Pages | 233 - 246 | |
| Annotation | Публикация продолжает серию комментированных переводов из автобиографии «Обрубленное дерево» (Chāṅgiā rukh, 2002; в английской версии — Against the Night) Балбира Мадхопури, известного индийского писателя, поэта, переводчика, журналиста и общественного деятеля. Он родился и вырос в квартале чамаров-неприкасаемых в панджабской деревне Мадхопур на северо-западе Индии, прошел трудную школу жизни, но смог получить высшее образование и заняться литературным творчеством. Балбир Мадхопури — автор 14 книг на панджаби, в том числе трех поэтических сборников. Он перевел на свой родной язык 36 произведений мировой художественной литературы и выступил в качестве редактора 42 книг. В 2014 г. он получил высшую награду Литературной академии Индии за переводческую деятельность и вклад в развитие языка панджаби. В автобиографическом романе «Обрубленное дерево», включенном в программы панджабских школ и целого ряда гуманитарных вузов Индии, Балбир Мадхопури делится детскими и юношескими впечатлениями и эмоциями, определившими его мотивации к борьбе за выход из круга нищеты и бесправия. Глава «Тернистый путь» повествует о трудной жизни низкокастовых жителей Панджаба в 1960–1970-х гг., о деревенских традициях и обрядах, в которых тесно переплетались верования индусов, сикхов и мусульман Пятиречья. Воспоминания о детских радостях и печалях соседствуют с размышлениями автора о социальной несправедливости и кастовом неравенстве, сохраняющихся в индийском обществе и поныне. Предлагаемый читателю отрывок из автобиографии Балбира Мадхопури — последний из четырех, запланированных к публикации в журнале в 2020 г. | |
| For citation: | Бочковская А. В. Балбир Мадхопури. Тернистый путь (глава из автобиографии «Обрубленное дерево»). Вестник Института востоковедения РАН. 2020. № 4. С. 233–246. DOI: 10.31696/2618-7302-2020-4-233-246 | |
|
|
||
| Received | 20.01.2021 | |
| Publication date | ||
| Скачать DOC Скачать DOCX Скачать JATS | ||
| Статья |
Переводы и комментарии DOI: 10.31696/2618-7302-2020-4-233-246 БАЛБИР МАДХОПУРИ. ТЕРНИСТЫЙ ПУТЬ (ГЛАВА ИЗ АВТОБИОГРАФИИ «ОБРУБЛЕННОЕ ДЕРЕВО») © 2020 А. В. Бочковская[1] Публикация продолжает серию комментированных переводов из автобиографии «Обрубленное дерево» (Chāṅgiā rukh, 2002; в английской версии — Against the Night) Балбира Мадхопури, известного индийского писателя, поэта, переводчика, журналиста и общественного деятеля. Он родился и вырос в квартале чамаров-неприкасаемых в панджабской деревне Мадхопур на северо-западе Индии, прошел трудную школу жизни, но смог получить высшее образование и заняться литературным творчеством. Балбир Мадхопури — автор 14 книг на панджаби, в том числе трех поэтических сборников. Он перевел на свой родной язык 36 произведений мировой художественной литературы и выступил в качестве редактора 42 книг. В 2014 г. он получил высшую награду Литературной академии Индии за переводческую деятельность и вклад в развитие языка панджаби. В автобиографическом романе «Обрубленное дерево», включенном в программы панджабских школ и целого ряда гуманитарных вузов Индии, Балбир Мадхопури делится детскими и юношескими впечатлениями и эмоциями, определившими его мотивации к борьбе за выход из круга нищеты и бесправия. Глава «Тернистый путь» повествует о трудной жизни низкокастовых жителей Панджаба в 1960–1970-х гг., о деревенских традициях и обрядах, в которых тесно переплетались верования индусов, сикхов и мусульман Пятиречья. Воспоминания о детских радостях и печалях соседствуют с размышлениями автора о социальной несправедливости и кастовом неравенстве, сохраняющихся в индийском обществе и поныне. Предлагаемый читателю отрывок из автобиографии Балбира Мадхопури — последний из четырех, запланированных к публикации в журнале в 2020 г. Ключевые слова: Индия, Панджаб, каста, неприкасаемость, идентичность, далитская литература. Для цитирования: Бочковская А. В. Балбир Мадхопури. Тернистый путь (глава из автобиографии «Обрубленное дерево»). Вестник Института востоковедения РАН. 2020. № 4. С. 233–246. DOI: 10.31696/2618-7302-2020-4-233-246 BALBIR MADHOPURI. KÃTĪLĪ RĀHÕ KE RĀHĪ / THE THORNY PATH (CHAPTER FROM CHĀNGIĀ RUKH / AGAINST THE NIGHT) Anna V. Bochkovskaya The commented translation of a chapter from the Chāṅgiā rukh (Against the Night) autobiography (2002) by Balbir Madhopuri, a renowned Indian writer, poet, translator, journalist and social activist, brings forward episodes from the life of Dalit inhabitants of a Punjab village in the 1960–1970s. Following the school of hard knocks of his childhood in the chamar quarter of Madhopur, a village in Jalandhar district, Balbir Madhopuri managed to receive a good education and take to literature. He has authored 14 books including three volumes of poetry, translated 35 pieces of world literary classics into Punjabi, his mother language, and edited 42 books in Punjabi. In 2014, he was awarded the Translation Prize from India’s Sahitya Academy for contribution to the development and promotion of Punjabi. Narrating the story, Balbir Madhopuri shares memories, thoughts and emotions from early days that determined his motivations to struggle against poverty, deprivation and injustice. The chapter Kãṭīlī rāhõ ke rāhī (The Thorny Path [Madhopuri, 2010]) tells readers about the destiny of low-caste Punjabis as well as about village traditions and rituals featuring Hindu, Sikh and Muslim beliefs deeply intertwined in the Land of Five Rivers. Memories of childhood joys and sorrows go side by side with Balbir Madhopuri’s reflections on social oppression and caste inequality that still remain in contemporary India’s society. This commented translation is the final one in a series of four chapters from Balbir Madhopuri’s autobiography scheduled for publication in this journal in 2020. Keywords: India, Punjab, caste, untouchability, identity, Dalit literature. For citation: Bochkovskaya A. V. Balbir Madhopuri. Kãṭīlī rāhõ ke rāhī / The Thorny Path (Chapter from Chāṅgiā rukh / Against the Night). Vestnik Instituta vostokovedenija RAN. 2020. 4. Pp. 233–246. DOI: 10.31696/2618-7302-2020-4-233-246 Боже, Боже, ливень дай, Пусть созреет урожай! Камни черные полей — Дождик нужен посильней! Мы то и дело повторяли эти выученные в школе строчки, бегая по улочкам и закоулкам нашей деревни. Мы носились по земле, а облака — по небу. Когда бы мы ни бросали взгляд наверх, клочки облаков, казалось, не переставали подталкивать и подпихивать друг друга, стремясь победить в гонке. На мгновение мы забывали про «камни черные полей», как и про самих себя. Стоя у зарослей кустарника на кладбище, которое после отъезда мусульман из деревни полностью заросло, говорили друг другу: «Наверное, облака нас не услышали! Иначе они точно вылили бы дождь прямо сюда..!» «Только глянь, как облака воду переносят! Они же передают ее тем, что перед ними! И возвращаются — чтобы принести еще воды!» «Сейчас несут воду дальше! А потом — нам!» Тем временем на горизонте — на востоке или на западе — появлялась радуга. Мы звали ее «цветными качелями старушки-маи[2]». Мы глядели на нее и выкрикивали названия цветов: сначала фиолетовый, затем синий, голубой, зеленый, желтый, оранжевый и, наконец, красный — на самом верху! Мы часто удивлялись — как эти цвета смогли забраться прямо на небо? Затем кто-то предложил объяснение: «Наверное, у маи были только эти семь красок!». «Все это — цвета солнца», — я сообщил то, что узнал от Пхуммана. Все захихикали, не поверив. «Пхумман говорил, что эти цвета созданы из одного — из солнечных лучей», — повторил я. «Не видно никакого цвета, кроме солнечного!» «Говорят, если посмотреть через толстое трехгранное стекло, то все цвета увидишь», — поведал я то, что слышал раньше. «Ерунду ты болтаешь! Пошли лучше, глянем на ту гору!» Я расстроился и подумал — мало ли, Пхумман тоже мог ошибиться. Но потом сообразил, что ему можно верить всегда — значит, то, что он говорил, всегда правильно. Эта мысль меня приободрила. Забравшись куда-нибудь повыше и встав на цыпочки, мы вглядывались в контуры на северо-востоке. Голубоватая каемка гор, казалось, таяла на фоне неба. Вершины мерцали, принимая формы и очертания прекрасных фей, то вылетавших из пушистых облаков, то скрывавшихся в них. Снежные пики поблескивали, и я подумал, что самый большой — это, должно быть, главная вершина Гималаев — Эверест. Та, которую покорили Эдмунд Хиллари и Тенцинг Норгей в 1953 году — первые, кто на нее взошел. Мысль о том, что помню школьный урок, порадовала меня... И затем мы все помчались домой, громко вопя: Боже, Боже, ливень дай, Пусть созреет урожай!.. Как-то, когда мы носились и распевали эти строчки, ветер внезапно стих. Облака собрались вместе, стали совсем другими: они висели низко, полностью закрывая солнце. Был еще день, но стало очень темно. Люди и птицы спрятались по укрытиям. Дома и деревья виднелись только во время вспышек молний, освещавших темные небеса. Затем громыхание облаков прекратилось. Казалось, что они вот-вот рухнут. И началось! Крупные тяжелые капли били с огромной силой — как будто бабушка в старой ступке толкла тяжелым пестиком зерно. Мне казалось, что день потерялся в мрачных темных облаках. За несколько мгновений все вокруг было затопила и залила вода. Теперь дождь лил с необычайной силой, и темнота сгустилась еще сильнее. Бапу[3], стоя у входной двери, оглядывался вокруг, как будто пытался в чем-то убедиться. Крыша начала протекать через щели и дыры, и он подставлял под них горшки и миски. Он был сам не свой, как будто чего-то ждал. Ночь кое-как прошла. Но с рассветом дождь обрушился с новой силой, и Бапу затянул свое ежеутреннее: «Надо еще кукол закопать… Еще каши Хваджи Хизра раздать…»[4]. Внезапно раздался треск, прервавший его на полуслове, — иначе он продолжал бы говорить! Больше половины стены кухни и нашего дворика рухнули наружу, запрудив несущиеся по улочке потоки. Вода во дворике моментально поднялась до щиколоток. Уровень воды на дорожках и в канавах сравнялся еще до этого. «Быстро! Вставайте! Как бы стена комнаты тоже не упала!», — взволнованно закричал Бапу на ходу, перепугав нас всех. Многие уже вышли из домов. Кто-то намотал на голову покрывало, кто-то сделал накидку из клеенчатого мешка от удобрений. Бапу принялся собирать землю и грязь от упавшей стены, быстро закидывая комья глины назад во дворик. К этому времени все вокруг превратилось в небольшой пруд, заполненный коровьим навозом, сухими кошачьими и собачьими экскрементами, клочками соломы. Чуть позже он беспомощно вздохнул: «Глину уносит водой!» Как будто размывались его сила и решимость — подобно глине, уносимой прочь быстрым потоком воды. Тень забот на лице Бапу стала еще заметнее, и он произнес — так, чтобы услышали стоявшие рядом: «Не моли небо о дожде, оно может вспомнить о просьбе во время потопа!» «Как-то сант[5] рассказывал про правителя, который не мог вытерпеть дождь, что шел двенадцать часов подряд, и, заботясь о своих подданных, попросил бога о двенадцати годах засухи», — сказал кто-то. Они так переговаривались, когда внезапно раздался женский голос: «Садху Кевал — на него крыша завалилась… Спасите его! Скорее! Спасите!» К этому времени дождь уже перешел в морось. Бапу и еще несколько мужчин, женщины и мы, дети, бросились к дому Садху с криками: «Кевал, ты где? Где ты?» «Здесь я!» — из-под обрушившейся крыши послышался сдавленный, но громкий голос. Завал быстро разобрали, упавшие балки сдвинули в сторону. Кевал стоял в углу, его голова и все тело были в глиняной грязи. Выбравшись наружу, он встряхнулся, как мокрая овца. Весь в порезах и ссадинах, местами в крови, он дрожал от испуга и шока. «Всевышний вторую жизнь дал сыну моему!» — Банти, сложив руки, поклонилась земле, затем положила руку Кевалу на голову. Все, наблюдавшие эту трогательную сцену, сияли от радости. Затем разошлись по домам. Тайя[6] Банта приглушенно произнес: «И Всевышний тоже жесток лишь к беднякам!» «Засуха или дождь, голод, печаль, тревога, обман, — все это только нам!» — добавил Бапу. Не знаю, что пришло в голову Бапу, когда мы пришли домой, но он сразу направился на крышу — по глиняным ступенькам рядом с кухней. Я последовал за ним. Он медленно и осторожно двигался по краю крыши и старался заделать дыры, придавливая ногой мокрую глину. Я огляделся — многие наши соседи тоже пытались восстановить разрушения на крышах. Насколько виднелось вокруг, рисовые поля ушли под воду, а кукуруза и баджра[7] полегли из-за ливня. Один лишь тростник гордо зеленел и был полон жизни. Деревья стояли без движения, с высоко поднятыми кронами-головами, и казалось, молча наблюдали за происходящим. На полях виднелись согнутые фигурки людей, похожие на ростки риса. Деревня оказалась затопленной полностью; никто — ни животные, ни деревья, ни люди — не смогли защититься от воды. Мутная грязная водная поверхность перекрыла все дороги и тропинки к соседним деревням — Растго, Манакдхери, Сикандерпуру и Дхадха-Саноутре. Резкий свисток и пыхтение поезда отвлекли мое внимание. Проносившийся мимо локомотив выплюнул густое черное облако дыма. Мне очень хотелось добежать до домов намбардара[8] или брахманов и смотреть на поезд с их крыш, поскольку сквозь высокие палисандры и другие деревья было мало что видно — только в просветах. Я все еще играл в прятки с поездом, когда увидел Кхушию и с ним еще несколько ребят, они несли в руках палки. Кто-то спросил, куда они идут, и Кхушия на ходу громко ответил: «Рыбу ловить! Пруд в Манакдхери из берегов вышел. Пошли с нами!» Я хотел побежать за ними и посмотреть, как плещется рыба. От одной мысли о том, чтобы подержать в руках изворачивающуюся рыбину, пришел в восторг. Но вид высоко стоявшей повсюду воды не давала мне покоя. Спустившись с крыши, я увидел жителей нашего квартала — они стояли группками и тихо переговаривались. Их лица выглядели печальными и озабоченными, и я услышал чьи-то слова: «Ночью умерла. Площадки затоплены, пруд в Манакдхери разлился. Если к вечеру вода спадет, то сможем кремировать. Восточная сторона повыше будет, да и даже сейчас вода там стоит ниже». «Та часть — наша!» — громко заявил Джогиндер — так, чтобы его слышали сквозь шум дождя. Он был из касты сарехра — трепальщиков хлопка. На это тайя Банта ухмыльнулся, продемонстрировав грязные пятнистые зубы. Дело-то в том, что площадка для кремации низкокастовых считалась общей, но тропинка, ведущая в Растго, делила ее на две части. Западная — бóльшая — часть считалась принадлежащей ад-дхарми[9], которых в деревне жило больше, а восточная — трепальщикам. Но с течением времени это различие стерлось, однако, время от времени всплывало — как в этом случае. Тут же снова обо всем договорились. Солнце и облака все еще продолжали свои игры, но продлилось это недолго. Облака снова собрались в кучи, небо почернело, и полил дождь, сильный и непрерывный, нагоняющий на всех тоску. К вечеру несколько домов рухнули полностью или потеряли часть стен. Огромный купол на здании около гурдвары[10], сложенный из небольших кирпичей, начал распадаться у меня на глазах. Тростниковая крыша на скотном дворе джатти[11] таи[12] Таро тоже развалилась. Юные девушки из нашей общины закапывали маш[13] под канавками-водостоками своих домов. На перекрестках сжигали кукол, горстки маша заворачивали в черно-красные ткани, заклинали и заговаривали их, пытаясь остановить ливень. Всюду слышались пугающие рулады огромных желтых лягушек, плававших на затопленных полях. Темные тучи выглядели так, как будто они тоже устроили заговор против бедняков. На лицах многих людей застыли глубокая тревога и горе, но мы со сверстниками в восторге носились по округе в поисках лягушек. Разрывали червей пополам и с любопытством наблюдали, как две части червя ползут в разных направлениях. Швыряли осколки глиняной посуды в воду и радостно смотрели, как они уплывают. Как и в других домах, в нашем очаге тоже не горел огонь. Лепешки из коровьего навоза, хворост, щепки, — все промокло. Бапу вытащил две деревянные планки из потолка в маленькой комнате и, порубив их, сказал маме: «Возьми, чтобы сейчас приготовить еду. Утром посмотрим, что делать». Дождь прекратился той же ночью. Однако все дороги — как в деревню, так и из нее — оставались залитыми водой. Людям было трудно утром выйти по зову природы, особенно старикам. Те, чьи дома пострадали, пытались их починить. «Эти дожди добрали все за прошлый год! Вода в колодце поднимется еще на два-три локтя! Теперь по меньшей мере два года не высохнет», — радостно сообщил заминдар[14], подойдя к группе стоявших под баньяном. В этот момент подошел Мохани — из гхора[15] — и спросил: «Скажи, джат-бхаи, ты уже объехал свои поля? Дождь знатный, всюду сплошная вода!» Затем, не дожидаясь ответа, продолжил: «Как там тот буйвол, которого ты купил? Его как лучше в плуг ставить — справа или слева?» И добавил: «Как продали мы своего, второй буйвол — белый — очень грустит». Услышав это, Бапу с отвращением нахмурился и ушел прочь, бормоча: «Они радуются, что вода в колодцах на три локтя поднялась, а у нас она по горло стоит. Он спрашивает про скотину! А мне бы хоть кто-то сказал, что, мол, плохо, что у твоего дома стена наружу вывалилась!» И добавил с горечью: «Правду говорят: деревня жива — и теленку молока хватит!» Действительно, с такими страшными ливнями жители нашей деревни сталкивались и раньше. В сезон муссонов такие «чудеса» случались почти каждый год. Когда дождь шел пару дней без перерыва, стены большинства домов в нашем районе начинали рушиться. Наружный слой земли, которым обмазывали стены, впитывал воду и отваливался, и муравьи, устроившие себе дома в стенах, принимались носиться со своими белыми куколками в поисках нового укрытия. Когда стены рассыпались, мыши, крысы, сороконожки и прочая мелкая живность начинали суетиться в поисках места, куда можно спрятаться. Это было забавно наблюдать, но тревоги и волнения Бапу передавались нам — как будто делились на всех. Меня больше всего волновало именно это… Отвалившиеся слои земляной штукатурки собирали, и уже через неделю-полторы они занимали свое место на тростниковых стенных конструкциях, и следы разрушений, принесенные дождями, исчезали — как заживает тело, не оставляя шрама на месте раны. Отремонтированные и заново оштукатуренные стены выглядели лучше, чем раньше. На лицах бедняков появлялись слабые улыбки. В разговорах они часто вспоминали о бедствиях, принесенных прежними муссонами, которые теперь казались страшным сном. Они снова сидели группами под баньяном, и снова вели разговоры о разном. «В этот раз поклонники Гугги[16] из Растго еще не появлялись! Уже и время пуджи[17] Гугге прошло», — внезапно заметил тайя Мехнга, передавая трубку хукки[18] тайе Банте. Немного помолчав, он добавил: «Гугга-навами[19] завтра или послезавтра». «Может, они дома свои чинили, а может, пошли за милостыней в другую сторону: “О джи, о джи![20]”» — ответил тайя Банта, передразнивая Гугга-бхагатов[21]. Как раз в этот момент мы услышали звуки барабанов-дамру[22] и пение, доносившееся со стороны дома Джагара-чоукидара[23]: Великий Гугга родился, Свет принес в дом, осветил все вокруг! О Джаймал, мой возлюбленный, О джи! О джи! И вновь Гугга-бгахаты обосновались под нашим баньяном. Один из них, шедший первым, установил шест с флагом Гугги, украшенным цветными платочками и лоскутами, павлиньими перьями, кокосами и ракушками-каури. Они сделали небольшую паузу и затянулись хуккой. Старейшина группы рассказал историю про Гуггу. Мать пира Гугги звали Бачхал, а ее сестру — Качхал. У Гугги было два двоюродных брата, Сурджан и Арджан; они с малых лет с ним враждовали. Возлюбленная Гугги, рани Силиар, была необычайно красива и притягательна, и Сурджан сам хотел на ней жениться. Он и Арджан пошли войной против Гугги, и тот убил их обоих. Бхагат-рассказчик промакнул краем ангочхи[24] лицо и прокуренные усы и продолжил: «Когда Бачхал услышала эту печальную новость, она отвернулась от своего сына. Гугга был безутешен, он пытался найти прибежище в Матери-Земле, но она отказала ему, потому что он индус. Поэтому Гугга принял ислам, и Земля дала ему прибежище. И он, сидя верхом на коне, погрузился в Землю, произнося калиму[25]». Когда рассказ закончился, начали бить в маленькие барабанчики, и Гугга-бхакты мелодично затянули: Арджан и Сурджан пошли войной на жениха. Не отдадим красавицу Силиар! О джи, о джи, о джи! Рассказчик снова остановился и попыхивал хуккой, пока несколько бхагатов обходили зрителей и собирали то, что люди давали им, — гхи[26], горчичное масло, гур[27], зерно, муку. Затем они подняли шест с флагом и пошли к дорожке, ведущей в соседнюю деревню — место их следующей остановки, а мы с друзьями хором их передразнивали: У Гугги девять детей, Гугга-пир знает вас всех, О джи, о джи, о джи! Мы изображали бой барабанчиков, стуча по мискам, затянутым сверху кусками клеенки. Тайя Банта громко произнес, чтобы другие услышали: «То они просят милостыню ради слепого коня, то — ради Гугги… При чем тут они-то? Как будто Гугга им родственник!» «Они, как и мы, — бедные и нищие, и нет у них за душой ничего. Так хоть что-то заработают», — сказал Бапу, сидевший рядом с Бантой. «Потому что этот твой друг одноглазый — факир из Растго — собутыльник твой! Мы-то ни разу ни к ним в гости ни ходили еще, ни хукку с ними не курили, ни глотка воды не сделали! А ты очень уж беспокоишься об этих попрошайках!» «Как будто джаты разрешат нам подойти к ним! Они нам приказывают на землю сесть в своих дворах. Относятся хуже, чем к собакам!» — ответил Бапу. «У джатов-то своя земля есть. А вон посмотри на этих рамдасия[28]! Они из наших, но сделались сикхами и глядят теперь свысока! Раньше воду из одного колодца брали, а сейчас построили себе отдельный! Говорят, что земля вокруг нашего колодца воняет табаком — от воды в наших хукках[29]! Открыто не говорят, что они теперь не такие, как мы»! «А моя мать до сих пор называет мать Мунши Сингха своей теткой», — напомнил ему Бапу. «Она говорит, что была теткой Ситы Рама» — заявил тайя Банта, вынув изо рта трубку хукки. И со смешком продолжил: «Что я тебе говорил! Все из одной общины вышли, в близком родстве. Но все поменялось лет за сорок-пятьдесят. Сант Рам из той же семьи, но арьясамаджистом[30] сделался! После этого и не смотрел в их сторону!» Тайя помолчал и затем вернулся к тому, о чем говорил раньше: «Все дело в том, брат, что кто были своими, уже больше не свои. Не равняй нас с уборщиками-чухра… Что нас с ними связывает?.. Ничего общего у нас нет, и родственников никаких! И нечего обращать на это отребье столько внимания!» «Ну ты хоть бы свои седины уважал… А если бы мы сами родились в семье чухра? Моя бы воля, то что, выбрал бы я родиться чамаром?» — воскликнул Бапу, вставая со своего места. Даже к хукке не прикоснулся. Направился домой, громко говоря: «Не избавиться нам от этого! Все это из-за брахманов! Это они перессорили нас — разделили, чтобы не было у нас ничего своего и чтобы мы на них работали задарма!» И продолжал размышлять: «Что это за жизнь у нас? Мы ни тут и ни там! Они говорят, что мы индусы. Тогда скажите мне, где нам место — среди брахманов, кшатриев, вайшьев, шудр? Ни веры у нас, ни варны! Кто-нибудь спросил бы, как это мы стали индусами!» Бапу, казалось, не хватало воздуха. Он сделал глубокий вдох и добавил: «Сколько раз я уже думал, чтобы нам стать сикхами!» «И кто тебе не давал? … Мне-то никакой разницы между сикхами и индусами, к тому же все верим в одного бога», — мама попыталась вступить в разговор. «И ты верно говоришь! У сикхов та же беда с кастой, что и у индусов!» Потом ему что-то пришло в голову, и он сказал: «Я и говорю, бхаи, что каждому надо быть частью группы, какой бы она ни была. Стань сикхом или еще кем-то — кем хочешь, но только индусом не оставайся! Вылезь из этого ада!» Казалось, Бапу что-то вспомнил и начал рассказывать: «Несколько дней назад лахорец Рам Бали выступал на митинге и сказал, что доктор Амбедкар[31] некоторое время назад советовал беднякам и низкокастовым стать буддистами, поскольку у буддистов нет ни варн, ни каст, и все равны. Кто его знает, почему индусы с таким гонором! Утверждают, что они выше тех или других. И стыда у них нет! Смерть им за все то зло, что они причинили беднякам! Убивают тех, кто и так уже неживой!» «Ты что так взъерепенился-то? Забудь об этом», — сказала мама успокаивающим голосом. Бапу, как будто вспомнив еще что-то, продолжал: «Этот Индер Сингх угрожал на днях. Говорил, чтобы я сказал своему зятю Гулзари Лалу, чтобы тот не пил из лотка, куда вода течет от персидского колеса[32], а только из лотка ниже. Иначе он ему задаст… И это говорит тот, кто всю жизнь бьет в тарелки и барабаны в гурдваре!» У меня перед глазами возникла картинка — как коровы пьют как раз там, куда вода льется из персидского колеса. Больно было от мысли, что мы оказались хуже, чем животные! Даже камни и бессловесные твари лучше нас! Их хотя бы считают более ценными и нужными, даже боготворят! В следующее мгновение я представил себе, что вода в лотке — это кипящий водоворот. «Ну что ты старье перетряхиваешь? Не раздувай потухший костер, только обожжешься!» «В душе все полыхает, а ты говоришь — успокойся! Не разделили бы страну на Хиндустан-Пакистан, Гулзари Лал никогда бы не пришел сюда из Лахора! Как будто тут было лучше!» От этих слов в моей голове все смешалось: мой дядя Гулзари Лал — высокий, отлично сложенный, со светлой, как у англичан, кожей; он всегда хорошо одевался и выглядел очень достойно. Если Гулзари Лал попил воды прямо из лотка, то черпаки, само персидское колесо, перекладины — как они могли осквернить Индера Сингха? Слушая такие разговоры, я не переставал думать, мои мысли тоже крутились как колесо, а тихая и чистая вода пруда превращалась в зеркало. Появлялись и исчезали разные образы. Огромные горы, затем вулкан, изрыгающий пламя и пепел! Когда горячие языки пламени подобрались ближе, я вздрогнул — как бы не обжечься. Неизвестно, сколько я бы пребывал в этих мыслях, если бы Дхъян не потряс меня за плечо со словами: «Сейчас сиваи[33] будут раздавать! Теперь у колодца, где два колеса!» В день Гугга-навами все женщины нашего квартала и все мои тетушки зажигали глиняные светильники и совершали обряд поклонения баньяну около дома Гурдаса. Они окропляли дерево молоком-ласси[34], затем раздавали сиваи детям, толпившимся вокруг со своими чашками и тарелками. Колодец с двумя персидскими колесами был в восточной части деревни, и с подношением сиваи к нему ходили только женщины из джатов, брахманов и ювелиров. Они несли покрытые ажурными белыми накидками подносы, изящно держа их на ладони левой руки, а в правой — стаканы или металлические горшки с ласси. Они шли с достоинством, одетые в красивые одежды, и, глядя на них, я снова задавался разными вопросами, умножая, деля, складывая и вычитая — в поисках ответов. Жалкий вид женщин и девочек из моей касты, их грязная потрепанная одежда, безучастные лица — все это мелькало передо мной. Их походка и близко не напоминала самоуверенную поступь женщин из семей заминдаров. Босые, в одной руке мотыга, другой на голове поддерживают тюк с травой или с одеждой, собирают мусор и сухие навозные лепешки, детей наказывают, хвалят-обнимают, — все это стояло перед моими глазами. Однако дети из нашего квартала все равно ходили к колодцу с двумя колесами. На этот раз я отправился туда с Дхъяном, Рампалом и Суччей. Мы взяли свои чашки и прошли по центральной дорожке деревни. Во время раздачи сиваи милым делом было попытаться оттеснить соседа. Но тут кто-то обругал меня, стал насмехаться над моей кастой, и я потихоньку ушел оттуда. В душе все бурлило. Первый и последний раз я ходил туда за сиваи! До самого вечера я очень расстраивался из-за этого происшествия. И потом еще несколько дней не мог его забыть, но затем новое событие подняло настроение. Раздался звук барабанов, и дети из нашего квартала роем пчел понеслись на него, пихаясь и толкаясь, как будто соревнуясь друг с другом — кто первый. Кто-то без рубашки, кто-то без штанов. Домчавшись до места, где звучал барабан, принялись танцевать бхангру[35] под его ритм, не обращая внимания на струившийся по телам пот. В барабан бил Аччхру из деревни Бинпалке примерно в четырех километрах к югу от Мадхопура — невысокий человек среднего возраста, с маленькими блестящими глазами, всклокоченной бородой и лицом в отметинах оспы. Он всегда носил медальон на черном шнуре и тюрбан с выпущенным сзади хвостом. Тюрбан был белым или кремовым, но непременно грязным. Одевался в курту[36] и дхоти[37], на ногах — черные шлепки. Аччхру бил в барабан на ходу, не останавливаясь, как будто стремился побыстрее куда-то добраться. Когда мы, дети, принимались плясать и скакать перед ним, он чуть замедлял дробь, а затем опять барабанил в том же ритме, отбивая его правой ногой — как будто, все забыв, снова становился ребенком. Приплясывая, мы обходили по тропинке кругом всю деревню; таким же манером радостная весть о соревновании акробатов-базигаров[38] достигала соседних деревень — за три-четыре недели до его начала. Базигары распределяли между собой деревни, где показывали трюки, и у нас выступали подопечные Аччхру. Представление обычно проходило около полудня под «сиалкотским»[39] баньяном. Дети и старики, мужчины, женщины и юные девушки, — все собирались под тенистой раскидистой кроной баньяна, чтобы смотреть выступление юношей-акробатов. Энергичная барабанная дробь придавала настроение — радостное возбуждение охватывало всех. За три-четыре дня базигары выбирали площадку и готовили ее для выступления. Они сооружали наклонную земляную дорожку, передняя часть которой была заметно выше задней; ее называли адда[40], это и становилось местом соревнований. Перед приподнятым краем закрепляли трехметровую доску из тика. Всю заранее вскопанную площадку несколько раз разравнивали и разглаживали, подметали и тщательно пропалывали. Убирали все осколки глиняной посуды, стекла, старые гвозди, листья и все, что могло там валяться и поранить акробатов. На этой площадке они должны были прыгать и демонстрировать свое мастерство. Молодые акробаты — энергичные, быстрые и гибкие — носили короткие облегающие штаны-джангхия. Их крепкие тела блестели. Прежде чем взбежать по дорожке, они похлопывали себя по бицепсам, затем разбегались к планке, отталкивались от нее левой ногой, в прыжке делали сальто и затем возвращались в очередь для следующего прыжка. Неcколько человек, совсем мальчишки, у которых усы еще только намечались, с разбега вставали на руки, сходились в аккуратный круг и, оставаясь вниз головой, исполняли «танец», имитируя движение персидского колеса. Старики переговаривались между собой: «Мальчишки — какие они ловкие и гибкие!» «Ей-богу, смотреть-то как приятно! Такое тело только упорной работой получается! Наши же пьют и пьют целыми днями, пузо отращивают!» — с досадой высказался кто-то из заминдаров в адрес молодых людей из своей общины. В какой-то момент барабанный ритм ускорялся и становился громче. И базигары, и зрители входили в азарт. Начиналось настоящее соревнование, и детвора тоже похлопывала свои несуществующие мускулы, подражая акробатам. Те делали сальто то вперед, то назад. Зрители приходили в еще большее возбуждение. Когда кто-то из юношей ходил на руках, выделывая ногами пируэты, барабанщик и кто-нибудь из стариков затягивали песню — ему в помощь, повторяя строки: Облака затянули небо, В танце павлины забылись… Базигары разбегались и, отталкиваясь от доски, высоко подпрыгивали и делали сальто. Иногда они прыгали спиной вперед, по-всякому выкручиваясь и переворачиваясь в воздухе. Зрители неистовствовали, поддерживая их. «Ей-богу, как легко парень три раза перевернулся!» — восхищался кто-нибудь из стариков и вручал пару рупий Аччхру. Тот делал знак барабанщику остановиться и, повернувшись к публике, восклицал: «Процветания тебе, сардар[41]! И дому твоему!» Когда несколько акробатов готовились к следующему номеру, еще один юноша надевал железный обруч и ложился на землю. Другой юноша протискивал сначала голову, а затем торс в этот же обруч — с той стороны, где находились ноги первого. На телах обоих появлялось много отметин и следов. Барабанщик громко их спрашивал: «Ну что, парни, звать кузнеца, чтобы разрезать обруч?» «Нет, совсем не нужно!» отвечали юноши тихими сдавленными голосами. Тут же рядом старик протискивался через крохотное кольцо, затем хлопал в ладоши и повторял нараспев: Пробуй еще и еще; Прочь улетит попугай! Потом наступал черед игр с огнем. Из длинных гибких ветвей тутовника связывали кольцо, обматывали его смоченными в керосине тряпками и закрепляли на конце длинного шеста. Кольцо поджигали, и двое поднимали шест, держа его на уровне груди. Языки пламени взмывали вверх, и два акробата подбегали и прыгали через огненное кольцо, вытянув вперед руки и собравшись в струну, — как будто ныряли в колодец. В прыжке они пролетали сквозь огненное кольцо, но иногда туловищем или ногой задевали пламя, и на коже оставались небольшие ожоги. Кому-нибудь из акробатов завязывали глаза, он зажимал в зубах длинный кинжал, на концах которого тоже были привязаны тряпичные факелы, высоко подпрыгивал и делал сальто. Я изумлялся, наблюдая за их мастерством; мне хотелось самому стать акробатом. Тогда я стал бы известным, люди смотрели бы мое выступление, аплодировали и восхищались бы. Как я был бы счастлив! В самом конце представления показывали прыжки в высоту. Перед доской на бамбуковых шестах размещали чарпаи[42] — для страховки, на случай если акробат промахнется. Все акробаты прыгали по очереди, и затем доску поднимали повыше. Перед каждым следующим этапом ажиотаж зрителей возрастал. «Сардары, нам нужен высокий и сильный юноша», — громко говорил главный из акробатов. «Где Махиндер — из Ноба? Если нет его, пусть Икбал Сингх выйдет», — раздавался чей-то голос. Махиндер Сингх, Икбал Сингх и Бхадджи, родственник Бары Сингха, — все ростом под два метра, крепкие, сильные и красивые. Все без гонора, не завистливые. Они по очереди вставали на несколько поставленных одна на другую чарпаи, держа в руках обод от низкой корзины для веяния зерна. Акробат, собравшись, прыгал через него, не прикасаясь к стенкам, и делал в прыжке тройное сальто. Барабанная дробь усиливалась до предела, и зрители аплодисментами и радостными выкриками приветствовали этот лихой трюк. После этого зрители из соседних деревень начинали расходиться. Некоторые шли в гости к своим здешним друзьям. Постепенно толпа редела, и представление базигаров заканчивалось. Тут же около акробатов вырастала горка пшеницы. Им приносили гур, рис, дал[43], масло — топленое-гхи и горчичное, давали деньги. Женщины-джатти дарили Аччхру и его красавице-жене Банти ткани. Банти торговала в деревне расческами и иголками; ее руки покрывали украшения-татуировки в виде цветов. По лицам Аччхру и Банти было видно, что они очень довольны. Их сын-подросток Джогиндер или племянник Биллу тотчас прикрывали гур или топленое масло или сгоняли с них мух. В какой-то момент один из заминдаров произнес: «Отлично, брат Аччхру Рам! Ты собрал не меньше четырех манов[44] зерна. Год будет удачным. Даже что-то сможешь продать! И не сделал-то ничего, чтобы получить все это, только в барабан стучал четыре дня!» «Сардара, все верно говоришь, но и потратился я как в этот год… Смотри, как все дорого стало! И работали много в этом месяце!» Я так и сидел бы, уставившись на горки зерна и на мух, кружащихся над гхи и гуром, но тут Дхъян потряс меня за плечо и воскликнул: «Гудд! Глянь на небо, голуби Биккара какие там трюки выделывают!» Я засмотрелся на них, и мне почудилось, что я сам — один из голубей, кружащихся в синем небе. Но полет моей фантазии оборвался, и я очутился на земле, вспомнив ехидные слова заминдара: «Не сделал-то ничего, только в барабан стучал четыре дня!» Одновременно с этим вспомнил и другое — и перед моими глазами возникло темное лицо Бапу с нахмуренными бровями. Это уже была не фантазия, а реальность. Когда я добрался домой, отец попытался объяснить: «Мальчишки-базигары из кожи вылезали, калечились, людям праздник устраивали, чтобы порадовать, а эти заминдары им и слова хорошего не сказали! Говорят, что низкие касты должны обслуживать их, развлекать! Говорю тебе, это клеймо — низкие-высокие — никогда не исчезнет, если не драться изо всех сил. Будь бы у нас несколько акров земли, и не смотрели бы мы на этих паразитов-заминдаров! Сам видишь, как они нас ненавидят! Но приходится многое терпеть, чтобы выжить. И что поделать? Нам остается только мучиться и злиться!» Чуть помолчав, Бапу внезапно сорвался: «Мама[45]! Ты должен учиться! Или так и будешь в рабстве у заминдаров, как и мы! Целый день вкалываешь, а все, что дают, — сухая лепешка два раза в день! Не помрешь, но и жизни нет!» Когда Бапу таким образом взрывался, он выплескивал весь гнев в мою сторону. Его слова задевали за живое, но я не мог взять в толк, почему он ругается на меня одного. Когда я слушал его, мне казалось, что он и все камины-низкокастовые были единым целым — в сопереживаниях и отчаянном стремлении изменить свою жизнь. Израненные терниями, усыпавшими их путь, окровавленные, они, тем не менее, были полны решимости идти вперед, не зная, как долго им придется идти и что за дорога их ждет. Литература / References Madhopuri B. Chāṅgyā Rukkh (Ātmakathā). New Delhi, 2007. Madhopuri B Chāngiā Rukh (Svaijīvanī). New Delhi, (2002) 2017. Madhopuri B. Changiya Rukh. Against the Night. An Autobiography. New Delhi, 2010.
|