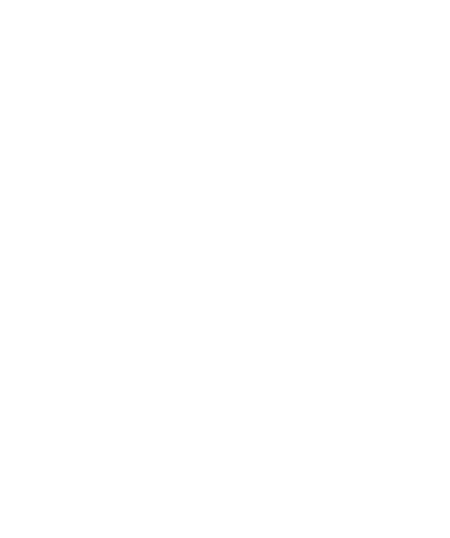Article
Балбир Мадхопури. Баньян — «дерево чамаров» (глава из автобиографии «Обрубленное дерево»)
Annotation
| DOI | 10.31696/2618-7302-2020-1-211-225 | |
|
|
published | |
| Author(s) | ||
| Magazine | ||
| Section | Исторические науки и археология//Переводы и комментарии | |
| Pages | 211 - 225 | |
| Annotation | Публикация представляет собой комментированный перевод с хинди главы из автобиографии «Обрубленное дерево» (Chāṅgiā rukh, 2002; в английской версии — Against the Night) Балбира Мадхопури, известного индийского писателя, поэта, переводчика, журналиста и общественного деятеля. В нее включены эпизоды из жизни низкокастовых обитателей одной из деревень северо-западного штата Панджаб в 1960–1970-х гг. Спустя два десятилетия, прошедших к тому времени после обретения Индией независимости, участь людей, находившихся в самом низу социальной лестницы, по-прежнему оставалась незавидной, несмотря на конституционный запрет неприкасаемости в какой бы то ни было форме. Основной социальный конфликт сельских районов Панджаба — между высококастовыми землевладельцами-джатами и низкокастовыми кожевенниками-чамарами, уборщиками-чухра и другими «обслуживающими» категориями населения — сохраняется и поныне, лишь частично изменив форму. Балбир Мадхопури, родившийся и выросший в чамарском квартале панджабской деревни Мадхопур, прошел трудную школу жизни, но смог получить высшее образование и заняться литературным творчеством. В автобиографическом романе он делится детскими воспоминаниями и эмоциями, определившими его мотивации к борьбе за выход из круга нищеты и бесправия. Особое место в книге занимает метафора тянущегося к свету непокоренного дерева — некогда мощного и раскидистого баньяна, который был центром жизни и душой чамарской части Мадхопура, но по прихоти деревенской «элиты» оказался обрубленным и искореженным, как и судьбы подавляющего большинства низкокастовых обитателей Мадхопура. | |
| For citation: | Бочковская А. В. Балбир Мадхопури. Баньян — «дерево чамаров» (глава из автобиографии «Обрубленное дерево»). Вестник Института востоковедения РАН. 2020. № 1. С. 211–225. DOI: 10.31696/2618-7302-2020-1-211-225 | |
|
|
||
| Received | 11.11.2020 | |
| Publication date | ||
| Скачать PDF Скачать DOC Скачать DOCX Скачать JATS | ||
| Статья |
Переводы и комментарии DOI: 10.31696/2618-7302-2020-1-211-225 Балбир Мадхопури. Баньян — «дерево чамаров» (глава из автобиографии «Обрубленное дерево») © 2020 А. В. Бочковская[1] Публикация представляет собой комментированный перевод с хинди главы из автобиографии «Обрубленное дерево» (Chāṅgiā rukh, 2002; в английской версии — Against the Night) Балбира Мадхопури, известного индийского писателя, поэта, переводчика, журналиста и общественного деятеля. В нее включены эпизоды из жизни низкокастовых обитателей одной из деревень северо-западного штата Панджаб в 1960–1970-х гг. Спустя два десятилетия, прошедших к тому времени после обретения Индией независимости, участь людей, находившихся в самом низу социальной лестницы, по-прежнему оставалась незавидной, несмотря на конституционный запрет неприкасаемости в какой бы то ни было форме. Основной социальный конфликт сельских районов Панджаба — между высококастовыми землевладельцами-джатами и низкокастовыми кожевенниками-чамарами, уборщиками-чухра и другими «обслуживающими» категориями населения — сохраняется и поныне, лишь частично изменив форму. Балбир Мадхопури, родившийся и выросший в чамарском квартале панджабской деревни Мадхопур, прошел трудную школу жизни, но смог получить высшее образование и заняться литературным творчеством. В автобиографическом романе он делится детскими воспоминаниями и эмоциями, определившими его мотивации к борьбе за выход из круга нищеты и бесправия. Особое место в книге занимает метафора тянущегося к свету непокоренного дерева — некогда мощного и раскидистого баньяна, который был центром жизни и душой чамарской части Мадхопура, но по прихоти деревенской «элиты» оказался обрубленным и искореженным, как и судьбы подавляющего большинства низкокастовых обитателей Мадхопура. Ключевые слова: Индия, Панджаб, каста, неприкасаемость, идентичность, далитская литература. Для цитирования: Бочковская А. В. Балбир Мадхопури. Баньян — «дерево чамаров» (глава из автобиографии «Обрубленное дерево»). Вестник Института востоковедения РАН. 2020. № 1. С. 211–225. DOI: 10.31696/2618-7302-2020-1-211-225 Balbir Madhopuri. Hamārā, camārõ kā bargad (A Chapter from Chāngiā rukh / Against the Night) Anna Bochkovskaya This commented translation from Hindi of a chapter from the Chāṅgiā rukh (Against the Night) autobiography (2002) by Balbir Madhopuri, a renowned Indian writer, poet, translator, journalist and social activist, brings forward episodes from the life of low-caste inhabitants of a Punjab village in the 1960s — early 1970s. After two decades after independence, destinies of those stuck in the lowest part of the social ladder remained unenviable — despite the fact that according to India’s constitution, untouchability was abolished and its practice in any form was forbidden. The main social conflict in Punjab’s villages between high-caste landowners, Jats, and low-caste chamars, chuhras and other village servants is still underway — with only minor modifications. Following the school of hard knocks of his childhood in the chamar quarter of Madhopur, a village in Jalandhar district, Balbir Madhopuri managed to receive a good education and take to literature. Narrating his story, Balbir Madhopuri shares childhood memories and emotions that determined his motivations to struggle against poverty, deprivation and injustice. The metaphor of a hardy bargad — a strong and powerful tree that used to be heart and soul of chamars’ area in Madhopur, but was slashed and distorted at a whim of the high and mighty villagers — holds a special place in the book. Keywords: India, Punjab, caste, untouchability, identity, Dalit literature. For citation: Bochkovskaya A. Balbir Madhopuri. Hamārā, camārõ kā bargad (A Chapter from Chāṅgiā rukh / Against the Night). Vestnik Instituta vostokovedenija RAN. 2020. 1. Pp. 211–225. DOI: 10.31696/2618-7302-2020-1-211-225 Автобиографический жанр доминирует в так называемой далитской литературе современной Индии. Термин далит (dalit — букв. угнетенный, приниженный) стал широко использоваться с 1970-х гг. для обозначения лиц, принадлежащих к низшим социальным стратам — прежде всего, к зарегистрированным (в прошлом — неприкасаемым) кастам и отсталым племенам. Политика «позитивной дискриминации» в отношении таких категорий населения, конституционно закрепленная в независимой Индии, дала положительные результаты в социально-экономической и культурной сфере, хотя множество проблем далитов остаются нерешенными. За прошедшие десятилетия в Индии появилось немалое количество писателей-далитов, голос которых хорошо слышен в общественно-политической жизни страны. Основу их автобиографических произведений в большинстве случаев составляет эмоциональный рассказ о социальной несправедливости и жестоком отношении со стороны высших каст, окружавших их семьи в деревнях или — реже — в городах, где они жили, и о том, как эти тенденции проявляются в современной Индии. Интерес к автобиографиям далитов, как и в целом к «далитской литературе», сегодня обусловлен прежде всего высокой степенью политизированности кастовой проблематики. Поэтому далитские «рассказы о себе» привлекают внимание не только индологов-литературоведов, но и историков, социологов, культурологов, а также исследователей, работающих в смежных дисциплинах. Штат Панджаб на северо-западе Индии, отличающийся очень высокой долей низкокастового населения (более 30 % жителей штата при среднеиндийском показателе около 16 %), дал Индии известные имена писателей-далитов, в числе которых Лал Сингх Дил, Прем Горкхи, Балбир Мадхопури, Атарджит и другие. Автобиографический роман Балбира Мадхопури (р. 1955) «Обрубленное дерево» (Chāṅgiā rukh, 2002), переведенный с панджаби на хинди [Madhopuri, 2007] и другие южноазиатские языки, а также на английский язык [Madhopuri, 2010], хорошо известен в Индии и Пакистане. Его автор — ныне признанный писатель, поэт, переводчик, журналист и общественный деятель, родившийся в маленькой деревушке Мадхопур в панджабском дистрикте Джаландхар, прошел в детстве через традиционно-унизительную далитскую «школу жизни», но затем смог получить высшее образование и заняться литературным творчеством. Перу Балбира Мадхопури принадлежат четырнадцать романов и три сборника стихов на его родном языке — панджаби, а также целый ряд публицистических произведений. Более 30 книг были им переведены на панджаби с хинди и английского; в 2014 г. он получил высшую награду Литературной академии Индии за переводческую деятельность и вклад в развитие языка панджаби. «Обрубленное дерево» представляет собой «я»-повествование о жизни низкокастовых-чамаров в панджабской деревне Мадхопур в 1960–1980-х гг., а также о сохранении кастовых предрассудков и связанных с ними форм дискриминации в более поздние десятилетия, — то есть о факторах, способствующих формированию «далитской идентичности» [Omvedt, 2006; Zelliot, 2010; Shah, 2001; Kumar, 2016]. Метафора тянущегося к свету непокоренного дерева — некогда мощного и раскидистого баньяна, который был центром жизни и душой чамарского поселения, но по прихоти деревенской «элиты» оказался обрубленным и искореженным, — выступает стержнем романа[2]. Баньян — «дерево чамаров» «Когда мы были детьми, расстояние между этими пипалом[3] и баньяном[4] было таким, что мы там могли пройти», — поведал нам Бапу[5]. В тот день он был в хорошем настроении. Мне еще больше захотелось услышать подробности. «А сейчас — глянь, как эти деревья прижались друг к другу: даже воздух с трудом проходит!» — заметил он и затем замолчал. Тишина тянулась — как маленький ручеек перед нами. Мне не терпелось услышать, что он еще скажет. «Эта парочка еще в молодости обнялась, ничего не говоря и ни о чем не думая. А тут — человек не желает, чтобы другой человек даже приближался к нему!» — сказал Бапу, выходя из молчания, в котором, казалось, он полностью утонул. Морщинки на его лице стали глубже. Я чувствовал, что он пытался собраться с мыслями. Я наблюдал, как трепещут листья и сверкают молодые побеги на деревьях-близнецах. «Вот я тебе еще расскажу… Эти два дерева вместе посадили мой отец Рам Дитта и Тхакар — дед Рама Сингха Джхира». Тут я стал высчитывать возраст деревьев. Зная, когда умер дед и сколько лет бабушке и отцу, я пришел к выводу, что их могли посадить где-то между 1876 и 1880 годами. «Хочешь узнать больше — слушай… Шестнадцать марла[6] земли для баньяна наша община выкупила у Картара Сингха из Ниван-Вехры. Все на словах, без документов. Бхаи Харбанс Сингх, паккавала[7], сам все промерял. В те времена каминам[8] нельзя было купить землю, чтобы построить дом, не говоря уже о том, чтобы ее возделывать. Был такой неписаный закон — чамары[9], чухра[10] не могли покупать землю на свое имя, даже если у них были деньги», – Бапу ушел в свои мысли, которым я ни в коем случае не хотел мешать. Люди из других каст — джаты[11], брахманы, ювелиры, плотники, цирюльники, водоносы, чесальщики хлопка и прочие — называли наше дерево «баньяном чамаров». Джат, спрашивая у собрата по касте, откуда тот идет, мог услышать: «Ходил к чамарли — чамарскому дереву, договорился с четырьмя тамошними, будут работать поденно». Некоторые джаты непристойно его обзывали. Когда они уходили, от злости Бапу ругался им вслед. В сезон жатвы джаты приходили к дереву нанимать работников — обычно вечером, когда большинство людей ужинали. Многие визитеры поверх дхоти[12] специально надевали нестиранную курту[13] или рубашку. На плече держали полотенце, которым отгоняли москитов с ног. После их ухода Бапу саркастически замечал: «И когда эти джаты соображать начнут? Все же к нам в дом идут, так надо хотя бы какую-нибудь тряпку наматывать на пояс!» Про джатов, про посевы и про особенности почвы наши знали все. Большинство не хотели работать на полях, расположенных около песчаных дюн[14]: «Какой дурак станет вкалывать на песчаных полях?» Также договаривались о еде. Обычно три раза в день работникам давали лепешку и два раза поили чаем. Бапу и мои двоюродные братья многим джатам говорили «нет», ссылаясь на то, что их якобы уже кто-то нанял. А потом говорили: «Он даже взвешивает зерно, которое дает нам для корма скота! Он плохое думает, работников дергает и шпыняет без конца, говорит, что у нас на перекур уходит очень много времени — но нам же надо делать перерывы! Кожа вся горит — работать на палящем солнце целый день!» На восходе и закате на ветвях пипала с воплями усаживались павлины. Затем перелетали на наши крыши, там распускали хвосты и начинали свои танцы. Мы кидали им зерно; они нас не боялись. Вороны клевали ягоды на дереве. Воробьи то улетали, то возвращались на его ветви. Я несколько раз замечал, что вокруг толстых стволов пипала и баньяна повязан моули — священный шнур — и как-то спросил Бапу о нем. «Баньян в восточной части деревни — тот, что в хозяйском квартале, и наше дерево обвенчаны. Весь обряд был проведен полностью, вся деревня свадьбу справляла». Показывая на длинные толстые ветви деревьев и их густую тень, Бапу говорил: «Эти деревья — что ни возьми, наше благословение. Моули повязывают на стволы для их защиты и благополучия, как же иначе!» Под кронами деревьев располагались ткацкие станки многих наших семей: ткачеством зарабатывали на жизнь. Это было дело непростое, оно требовало участия всех членов семьи. Сначала пряжу надо было связать в мотки, затем моток закрепить на веретено, и только потом можно было ткать. Бапу обычно вкапывал в землю несколько стволов тростника для основы. Они соединялись снизу, и получалась английская буква V — длинная тонкая конструкция. Иногда он устанавливал их в два ряда. Затем он ткал — протягивал веретено с шерстяной нитью между тростинками. Когда пряжа на одном веретене заканчивалась, он соединял конец нити с другим мотком, смачивая место соединения слюной. Так он быстро натягивал нити до самого вечера, а мой старший брат Бакхши помогал ему. На следующий день Бапу продолжал ткать основу, щеткой подкрахмаливая нити, чтобы они не спутывались. Он крутил и вертел каждую нить, смягчая ее слюной. Затем наступало время вплетать поперечные нити, и тут нужны были челноки. Бапу обычно сидел, свесив ноги в углубление в земле. Надавливал ногами на нижнюю часть станка — налево, потом направо — и быстро вплетал нити в основу. Если чувствовал, что челнок не двигается достаточно быстро, добавлял горчичного масла. Челнок из черного дерева из-за постоянного использования был очень гладким и часто выскальзывал у него из рук. Некоторые наши соседи-джаты нередко приходили посидеть с Бапу и его старшим братом около их станков и поболтать. В том числе и тайя[15] Хари Сингх, которого в деревне все звали Хари Рам или «калека». Он и его старший брат, Чанну, звали меня: «Гудд, сбегай в лавку к брахману, принеси пачку сигарет!» Тайя Чанну почесывал голову и со смехом рассказывал о том интересном, что происходило на сахарной фабрике в Бхогпуре. Я вприпрыжку бежал в лавку и моментально возвращался с сигаретами. Тайя и Чанну подходили к ткацкому станку — то порознь, то вместе — и там курили. У Решу — Решама Сингха, их двоюродного брата, был радиоприемник, и он тоже сиживал с ними до самых сумерек. Я всегда подсмеивался над абсолютно ровным кругом, выбритым у тайи на голове: замечал каждый раз, когда тот сушил или проветривал волосы[16]. Гьяну — парикмахер — часто брил ему макушку или подстригал бороду прямо под деревом. Тайя не был женат, и его часто за спиной звали одиночкой-ччхара или же жеребцом. Время от времени над нашими головами стрелой проносилась болтливая семейка попугаев. Когда Бапу отлучался от станка — принести из дома челнок или отойти по нужде — я тайком брал его хукку[17] и затягивался. Если Бапу замечал меня за этим, он издалека начинал ругаться на чем свет стоит. Часто женщины-джатти[18] давали свою пряжу или хлопок, и Бапу ткал им полотна с рисунком или белые простыни. Они звали маму к себе в дом, взвешивали там пряжу, а за работу платили натурой — пшеницей или кукурузой. Я постоянно увязывался за ней в их дома. Когда процедура заканчивалась, и хозяйка помогала маме водрузить тюк с хлопком или шерстяной пряжей на голову, она обычно говорила: «Постой, Сибо, дай-ка я угощу мальчика гуром[19] — пусть порадуется!». И я был страшно доволен — прямо слюнки текли, и бежал домой впереди матери, вытирая вечно текущий нос рукавом курты. На этих станках ткали полотенца для армии, а также ткани с рисунком в виде зигзагов. Шелковая или хлопчатобумажная ткань была длиной 110 газов[20], а рулон — 30 газов. Когда шелковая нить, вплетаемая в основу, провисала, Бапу набирал в рот воды и прыскал на просевшее место. Видя это, я хихикал. Но после двух-трех таких прысканий ткань снова натягивалась, и Бапу снова продолжал быстро ткать. «Ну и какого шиша мы получали за нашу работу? Пять рупий за рулон! Все сырье покупали у ткачей-мусульман из деревень Хошиярпура — из Джоуры, Кханпура, Чандияла, Кхаласпура, да у мунши[21] Найновалия. Приходилось идти пешком, нести на голове тяжелые тюки весом по два мана[22] — и под палящим солнцем, и в дождь, и в ливень, а когда и в страшный холод. Однако же все равно ходили», — печально рассказывал Бапу. Сейчас я знаю, что расстояние до тех деревень составляло от 7 до 27 километров. «Наверное, мы рождены, чтобы нас мучили по-всякому. Как же было тяжело жить!» — в его голосе звучала неподдельная боль. «Знаешь, что как-то произошло? Сюда, к станкам пришел сержант из полицейского участка в Бхогпуре. Действительно — такой мужественный, чтоб его! Он велел мне и Дханне явиться в участок и принести рулоны ткани. Мы оба взяли по нескольку рулонов и пошли туда. Он выбрал два рулона из тех, что мы принесли. Мы думали, что он заплатит за них. Но он обругал нас и велел быстро убираться и ничего не ждать от него. Бог мой, мы тряслись от страха, выбежали из участка — боялись, что он может нам какое-нибудь обвинение “пришить”», — вспоминал Бапу. И затем снова повторил: «Это ткацкое место было полно жизни! Такой тут стоял шум-гам!» В моей юной голове немедленно возникал образ: желтые листья баньяна трепещут на ветру. Я бежал, ветер обдувал мне лицо, и я ощущал тепло окутывавшего меня счастья. Я почти что наяву слышал звуки из громкоговорителей, которые часто вешали на ветви этих деревьев-близнецов на свадьбах и по разным другим поводам… «Наш Диван — мой тайя Диван Чанд — читал вслух «Хир»[23]. Мелодичный голос был у него. Половина деревни приходила послушать», — сказал Бапу, и тут на его лице появилась легкая улыбка. Я тут же подумал о слепом садху[24] Гарибе Дасе, который обычно летом, сидя под баньяном, пел баллады-кисса о Пуране Бхагате[25], Коулан[26], Тара-Рани[27] и Дахуде[28]. Одной рукой он играл на эктаре[29], другой — на маджире[30]. Во время исполнения он пояснял истории и растолковывал их слушателям, попутно потягивая хукку. Длинная белая борода и усы были пропитаны дымом и, казалось, сливались с его неизменным свободным шафрановым одеянием. В длинных волосах под тюрбаном гнездилась масса вшей, и он без конца чесался. Все его звали Андха Садху — «слепой садху». Во время исполнения он мне по нескольку раз говорил: «Гудд, добавь углей в чашу». Часто он пел до полуночи, а когда собирался уходить, кто-нибудь его приглашал: «Махарадж[31], завтра разделите с нами трапезу!» Я также помню другого слепого садху, который называл себя Асламом. Он был крепкого сложения, носил зеленую одежду, на голове у него была шапочка. Всегда носил палку с металлическим кольцом с одной стороны. Он появлялся у нас в деревне два-три раза в год и останавливался в соседнем доме — у двоюродного брата Бапу. Он пел каввали[32], кафи[33] и другие религиозные песни; играл на фисгармонии или саранги[34], а его ученики — на табла[35] или тоже на саранги. В ходе исполнения он впадал в транс, тембр его голоса становился выше, и он прекращал замечать тех, кто сидел вокруг. Он был из нашей общины[36], но принял ислам — в поисках социальной справедливости. Его проповеди произвели сильное впечатление на трех сыновей моего тайи, и они стали его последователями. Он прекрасно знал «Гуру-грантх-сахеб»[37], часто подмечал ошибки чтецов-грантхи, которые те допускали при чтении гурбани[38], корил их и бросал им вызов: «Спросите меня, какое слово на каких страницах встречается. Хотите — прочитаю “Гуру-грантх” от конца к началу!» Многие жители деревни приходили послушать его рассуждения. «Как-то наши санты[39] из Мехны устроили акханд-патх[40] — около ткацких станков, здесь, под баньяном», — слова Бапу еще больше подогрели мой интерес к этим садху, поскольку я уже думал раньше о них. Хотя лет мне было немного, я помнил красивое светлое лицо санта Рамлала, обрамленное белоснежной бородой. В нашей деревне его очень уважали за добродетельность и образованность. Почти все собрались послушать его, когда чтение подходило к концу. Но когда пришло время раздавать прасад[41], под тем или иным предлогом большинство ускользнули. Этот случай наши обсуждали еще долго. Все говорили: «Если не собирались принимать прасад, то зачем тогда приходили?» В дождливый сезон было не до ткачества, поскольку ухаживали за буйволицами заминдаров[42] нашей деревни и тех, что были в округе — Сохалпур, Манакдхери, Растаго, Сикандарпур, Дхадда, Саноура. Договаривались о цене — половину либо две трети стоимости животного после продажи. Буйволиц привязывали под баньяном. Их молоко шло на простоквашу и ласси[43]. Из расположенных неподалеку колодцев приносили воду для их купания, подстригали хвосты и надевали узду. Бапу надевал им колокольчики на шею и на ноги. Вся семья ухаживала за буйволицами. Бапу, мой старший брат Бакхши и я носили песок из близлежащих каналов или песчаных дюн и посыпали землю у них под ногами. Когда наступала зима, мы с Бакхши собирали на улицах опавшие с деревьев листья, а иногда — тайком от джатов — листья сахарного тростника на полях, и подстилали их животным. Когда буйволицы были готовы принести потомство, на них устанавливали хорошую цену. В большинстве случаев их покупали джаты. И тогда Бапу передавал покупателю веревку, которой было привязано животное, — после того, как мы за ним ухаживали год, а то и полтора. Все домашние обычно очень грустили. Иногда буйволица приносила потомство прямо у нас, и тогда я мог играть с теленком. Пылинки с него сдувал, забавлялся, когда теленок жевал веревку. Кормил его самой нежной травой, а он пытался прихватить меня за руку — трогательно до слез! Гладил его по головке. Когда теленка отдавали вместе с буйволицей, я упрашивал, чтобы его оставили. «Другая буйволица у нас будет — пандж-кальяни[44] или бхури[45], бурая красавица», — успокаивала меня мама. Бапу не уставал нахваливать уже проданных буйволиц: «Бог видит, какая хорошая она была!» Иногда говорил: «Если бы у нас были деньги, оставили бы ее себе. Шерсть давала бы. Хорошая порода! Но не видать нам удачи…» Под этим же деревом нас стриг цирюльник Рулийя, которого все дети звали тайя. Он нас усаживал в ряд на земле и заставлял снять курты. За работой он делал пару небольших перерывов — покурить хукку дядюшки Манхги или Далипа. Я уставал сидеть там — еще и собственные волосы впивались как колючки. Рулийя сначала стриг ножницами, потом машинкой, в качестве последнего оружия использовал бритву. Он доставал ее из сумки, натачивал на кожаном круге, затем проверял остроту, после чего окунал пальцы правой руки в кружку с водой и смачивал волосы между ухом и виском. Я дрожал от страха, а он успокаивал меня: «Ну все, все». При этом кольца в его ушах покачивались. Потом он брал маленькое зеркальце, которое лежало на земле, подравнивал собственные усы и бороду, заправлял волосы под свой белый, но испачканный тюрбан. Бапу, глядя на наши стрижки, обычно комментировал: «Вот же сукин сын — всю жизнь стрижет, а так как следует и не научился! Только глянь, как вкривь-вкось сделал! Глянь, Сибо, этот паразит мальчишке кожу тут порезал!» Как-то я спросил Бапу: «Тайя идет нас стричь за четыре километра. У нас же в деревне тайя Гьяну и его отец Баба Натха — они же тоже стригут!» «Они индусы, они нас не будут стричь», — ответил мне Бапу и занялся своими делами. Тогда я до конца не понял смысла этих слов. Но я же много раз видел, как тайя Гьяну подравнивает хвосты животным, которые принадлежали джатам. Ткацкое пространство под баньяном и пипалом было просторным, и там всегда что-нибудь устраивали. Там проходили помолвки и свадьбы. Там начинались свадебные процессии. Там же собирались в минуты горя. Благодаря этим деревьям наш квартал был местом развлечений всей деревни. Здесь разыгрывали представления, отмечали сал[46] — каждый год после сезона дождей, когда молились о благополучии скота. Это считалось одной из обязанностей чамаров. Готовиться начинали за месяц до праздника. Все молодые люди, проживавшие в округе, собирали необходимые припасы для разных ритуалов и для актеров, которые приходили выступать. С каждого дома собирали примерно сер[47] с четвертью зерна за каждого животного. У нас, чамаров, и у многих бедных джатов зерна часто не хватало, и потому неимущие джаты утаивали количество животных, которыми владели. Сал отмечали для того чтобы защитить скот от ящура и чтобы ублажить богов. Главным среди бхагатов[48], ответственных за проведение ритуала, был Кирпа из Кадиана[49] — высокий, широкоплечий, хорошо сложенный. Он всегда был одет в шафрановые одежды, а на шее носил многочисленные четки. Его дочь Нанти была замужем за Массой — из нашей общины, и он тоже был последователем Кирпы. Он любил, когда его называли Масса Сингх, но дети за спиной его звали Масса-рангхар[50]. Когда корова или буйволица не давали молоко, он делал шарик из муки, что-то бормотал и дул на него. Затем ворчал по поводу хозяйки скотины: «Глупая баба! Корову нормально не кормит — и что, молоко с небес прольется?» По ходу отпускал шуточки: «Вот пришла — спустить все деньги!» Или: «Говорит мне: ”Братец, невестка моя никак не понесет…” А я-то что могу с ней сделать?» Он часто так подшучивал себе под нос. Праздновать сал начинали за глинобитной стеной нашего дома. Там была небольшая земляная платформа, которую покрывали штукатуркой из смеси с коровьим навозом. После этого читали мантры и шлоки[51] в честь Бабы Сиддха Чано[52]. На этой платформе каждый раз на новолуние (сангранд) и в безлунную ночь (амавасья) у нас в квартале раздавали толстые сладкие лепешки-роти и чурму[53] — чтобы скот был в полном порядке и здравии. Лепешки делали из смеси пшеничной и кукурузной муки с гуром. Баба Сиддх Чано или Баба Сиддх Вали — очень известное и могущественное божество чамаров, которому поклоняются как защитнику животных. Рано утром и вечером проводили сход-акхару в честь бога Кришны и Бабы Сиддха Чано. Один из бхагатов читал шлоки и играл на фисгармонии, а еще два боролись — как атлеты. Рассказчик повествовал о Кришне — великом правителе и воине: «Как-то стали бороться — он и Баба Сиддх Чано. Восемнадцать дней продолжался поединок, но не мог Кришна победить Сиддха Чано. И тогда в последний день Кришна наступил ногой на день — когда Сиддх Чано обычно отдыхал — и сделал так, что он не заканчивался и закат не наступал. Вот так он и смог победить». Главное действо проходило в последний день и вечер акхары. Собирались все из нашей деревни, приходили люди из других деревень в округе, и вдоль домов выстраивалась еще одна стена из женщин, детей и стариков. Проводили ардас — обряд почитания гуру Равидаса[54]. Затем один из поклонников по имени Бхоура набирал в рот горячие угли, жевал их, а затем выдувал пламя изо рта. Прочие бхагаты в это время пели: «Бхоура съест огонь!» Зрителей эта сцена каждый раз брала за живое. Когда представление заканчивалось, музыканты затягивали: «Тха- тхайя, тха-тхайя![55]» И тут на середину сцену к ним выпрыгивал одетый женщиной танцор и запевал: Одета в муслин, Но жарко все равно! или Портной, не меряй мою талию, Но сшей мне платье! или же Джатти — как соблазнительный плод. Черная кобра проглотила ее! Это было знаком, что артистам пора платить. Если кто-то один или группа зрителей давали больше пятисот рупий, то процесс оплаты затягивался. Купюры привязывали к концу палки, шеста или копья и высоко поднимали. Танцор свистел в два пальца, музыканты начинали играть чуть тише, а зрители поддерживали и нахваливали тех, кто дал деньги. Частенько кто-то, подвыпив, ловил «девушку», и «она» прикидывалась, что застенчиво опускает взор, шарила руками по карманам выпивохи в поисках денежных купюр. В нашу деревню часть приходили артисты-мираси[56] из Манакдхери в дистрикте Хошиярпур. Жители той деревни не дали мираси уехать в Пакистан, когда шли погромы в 1947 году[57]. Бхагаты, которые приходили праздновать сал, и артисты — все были чамарами из деревни Пиппланвала, тоже хошиярпурской. Они вместе с бхагатами разыгрывали разговор джата с наемным работником — примерно так: Джат: Эй, братец Дханна, работа нужна? Работник: Да, господин! Джат: Сколько возьмешь? Работник: Кормить будете. Джат: Кормить буду. Работник: Одевать будете. Джат: Одевать буду. Еще что-то? Работник: Мыло и масло дадите. Джат: Да-да, мыло и масло дам. И… Работник: Тогда я вас обую![58] За этим следовал взрыв смеха, и «джат» делал вид, что хлещет «работника» кожаным ремнем, а «работник» приподнимал свою курту для удара. Так — в смехе и развлечениях — проходила почти вся ночь. Бхагат, исполнявший главную роль в празднестве, в какой-то момент вступал со словами: «Кхушия, Бхима — где вы есть? — подойдите к помосту!» В конце представления бхагата Кирпу усаживали на лежанку-чарпаи, и четверо мужчин доставляли ее к западной границе деревни: там Кирпа должен был совершить магический обряд и изгнать злых духов из животных. К чарпаи привязывали что-то типа слоновьего хобота — как будто бы он ехал на слоне. Тем, кто его несли, категорически запрещалось разговаривать друг с другом. Несколько раз я тоже ходил с ними, чтобы посмотреть на обряд. Нас — детей — останавливали на некотором расстоянии от границы деревни, чтобы никакой злой дух не мог на нас напасть. «Да, в этом году было тяжело! Скот на самом деле одолевали злые духи!» — так говорили носильщики по возвращении. «Кирпа-бгахат весит немало! Кхушия — самый невысокий, ему, должно быть, тяжелее всех пришлось», — думал я. На рассвете чоукидар[59] Джагар выкрикивал: «Эй, забирайте скотину назад!» Всех животных по одному приводили назад из-под «сиалкотского»[60] баньяна, к ветвям которого были привязаны кокосы, завернутые в красный шелк и перевязанные шнурами-моули. Эти ветви склонялись над тропинкой как арка над царской процессией. После этого все хижины и хавели[61] в деревне окропляли водой, жгли благовония. Часть благовоний раздавали, чтобы их можно было использовать позже для животных. В летнюю жару и во время сезона дождей под нашим баньяном собирались игроки в карты. Лягушачьи трели в пруду сливались с бульканьем хукки. Сестры моего отца, как и дочери из других семей нашей деревни обычно навещали родительский дом во время праздника ракхи-бандхан[62]. В этот день Бапу и его братья час-другой носили на запястье нити-обереги — ракхи, а затем привязывали их к своим хуккам, где они оставались на месяц или около того. На нижних ветвях баньяна устраивали качели для детей. Для девушек и молодых женщин — на тех, что повыше и покрепче. Таи[63] Таро — джатти — и чачи[64] Чхинни раскачивались так высоко, что при виде их мое маленькое сердечко трепетало, и казалось, что я не могу ни вдохнуть, ни выдохнуть. Наш баньян был укрытием для всей деревни во время сезона дождей; он был также свидетелем и многих радостных событий, и страхов, и волнений, и переживаний, и ссор. Каждый раз, когда рядом по дороге проезжал на повозке юноша-джат, он натягивал веревку, осаживая своих волов, начинал петь и выглядывать наших девушек через стены домов. Кто-нибудь из наших спрашивал: «Мама[65]! Что, повозка по внешней дороге никак не проходит, да?» Или в его адрес летело: «Эй, не можешь сидя, что ли, проехать?» А кто-то сетовал: «Вон он — позирует как Рани Кхан[66]! Они все грозятся, что запретят нам справлять нужду на их землях! Как будто ваши задницы лучше, чем наши, — и потому господь дал вам землю! Что, мы чем-то отличаемся?» К нам частенько заявлялись вдрызг пьяные Бакхтоура или его младший брат, известный как Длинный Содхи, и громко поносили весь квартал чамаров. Этого было достаточно, чтобы разгорелась ссора между общинами и началась драка. Мелькали палки, стороны выливали друг на друга ушаты проклятий и оскорблений. Стычка прекращалась минут через пять, когда тайя Чаннан Сингх, отругав своих сыновей, приказывал другим: «Прекратите это! Мои дети уже достаточно опозорили мои седины!» «Чего только не творилось у нас под этим баньяном!» — с таким чувством как-то произнес Бапу, что мы поняли: он хочет что-то нам рассказать. Это было поздним вечером, после ужина. «Да, Бапу, расскажи!» — мне не терпелось узнать. «Еще до раздела[67] — погромы тогда еще не начались — намбардар[68] Шер Сингх часто наведывался сюда, к нашим ткацким местам, и приказывал: “Тхакра — ты и Кхушия, завтра принесите траву для лошади тханедара!” [69] Мы должны были принести траву в полицейский участок. Сначала показывали тюки с травой намбардару. Он поднимал тюк — как бы взвешивая, а заодно проверял, хорошая трава или нет. Мы и без того боялись даже войти в участок. Так и стояли около тюков, пока он не давал добро. Если с лошадью тханедара что-то случится, то нам будет беда: нас же обвинят в том, что принесли плохую траву. Тогда время было очень тяжким для нас! Доктор Амбедкар[70] и Мангу Рам[71] боролись, и только потом стало получше. После раздела полицейские по-прежнему приходили, но мы больше не стали носить траву в участок. Это теперь была свободная страна! Еще что-нибудь рассказать?» — глаза Бапу блеснули. «Давай!» — отвечали мы. «Как-то Аччхар Сингх, заилдар[72] из деревни Лароа, и Шер Сингх, намбардар, проезжали тут верхом. Мы все были заняты — ткали. Тут заилдар спешился и принялся палкой лупить чача[73] Чхадджу со словами: “Ты почему не придержал мою лошадь за узду?!” Чача молил его: “Сардар-джи[74], не заметил я вас — иначе придержал бы!” Заилдар проклятиями осыпал весь наш квартал. Орал: “Ты что, топота копыт не слышал?!” Вот уж беда, мы бросили свои станки, стояли и дрожали. Наконец, вмешался Шер Сингх: “Ну ладно, сардар-джи, Чхадджу Рам теперь будет внимательнее”. И они сели верхом и поехали в Растаго. Заилдар, сволочь, — у него власть была, кого хотел, того мог посадить в тюрьму, кого хотел — выпустить. Говорили, смог выйти сухим после убийства — потому его все на свете боялись! Мог, сука, увести с собой сколько угодно человек, чтобы даром на него работали!» Казалось, Бапу вот-вот взорвется от ярости. Мне казалось, что от него нам передавалось настоящее понимание свободы. Я раньше часто видел этого заилдара с британскими замашками около полицейского участка в Бхогпуре. Я также видел его и позже, когда он уже влачил жалкое существование. Но его надменность оставалась при нем — перо в тюрбане и манера высокомерно держаться говорили за себя. Бапу продолжал: «Такова была наша участь. А вы, сукины дети, учитесь! Только так ваша жизнь станет получше! Сейчас времена изменились!» А потом наступил день, который я себе и представить не мог. Забыть немыслимо — это был февраль 1972 года. То, что тогда испытал, осталось в памяти навсегда. Я заканчивал десятый класс. Когда я вернулся домой из школы, то увидел, что наши деревья — баньян и пипал — спилили. Вид истерзанных и изуродованных деревьев-близнецов был ужасен. Их толстые крепкие ветви валялись на земле подобно разрубленным на куски телам героев, погибших на поле боя во время исторических сражений. Чоукидар Джанар и его сыновья как палачи свирепо рубили и пилили огромные стволы. Я тут же вспомнил предыдущую зиму, когда шла индо-пакистанская война[75] и почти все семьи проводили ночи под этими самыми деревьями, где были вырыты траншеи для укрытия. Когда около аэропорта в Адампуре или у сахарной фабрики Бхогпура падали бомбы, люди бежали туда прятаться. Именно под этими деревьями-близнецами люди собирались, чтобы по очереди охранять разные места в деревне. В те страшные ночи я чувствовал, как под деревьями пульсировала жизнь. Новые поддразнивания шли от Сварны — сына Индера Сингха, когда он со смешком говорил: «Секрет зимних ночных краж раскроется еще до дашеры[76]. Верно, Кришна?» Мы, хоть и не были взрослыми, понимали смысл этих слов. Глядя на сломанные и растерзанные ветви баньяна и пипала, валявшиеся на земле, я чувствовал, что защитная тень над нашими головами была разорвана в клочья. Углубления для ткацких станков выглядели открытыми и несчастными. Срублены и уничтожены единственные свидетели всей той тирании, которая выпала на нашу долю. На лицах всех членов моей семьи было горе. Бабушка до следующего дня осыпала проклятиями причастных к этому варварству: «Чтоб они сдохли! Душу мне разорвали — Всевышний сделает то же с ними!» Деревья-близнецы росли и набирали силу у нее на глазах — с того времени, когда она вошла в этот дом невестой. Она была потрясена тем, что деревья, которые посадил ее муж и которые стали настоящим раем для всего квартала, теперь уничтожены — столь жестоко и бессердечно. Бапу тоже был очень расстроен. Но он успокаивал себя мыслью, что чему было быть, того не миновать. И что самое плохое уже позади. По крайней мере, теперь джатские молодчики не будут тут слоняться и сидеть под густой тенью деревьев-близнецов. Литература / References Kumar A. Dalit Autobiographies in the Punjabi Context. Nayar R. (ed.). Cultural Studies in India. London, 2016. Pp. 65–96. Madhopuri B. Chāṅgyā Rukkh (Ātmakathā). New Delhi, 2007. Madhopuri B Chāngiā Rukh (Svaijīvanī). New Delhi, (2002) 2017. Madhopuri B. Changiya Rukh. Against the Night. An Autobiography. New Delhi, 2010. Omvedt G. Dalit Visions: The Anti-Caste Movement and the Construction of an Indian Identity. Hyderabad, 2006. Shah G. (ed.). Dalit Identity and Politics. New Delhi, 2001. Zelliot E. Dalit literature, language, and identity. Karchu B. B., Karchu Y., Sridhar S. N. (eds.). Language in South Asia. Cambridge, 2010. Pp. 450–465.
|