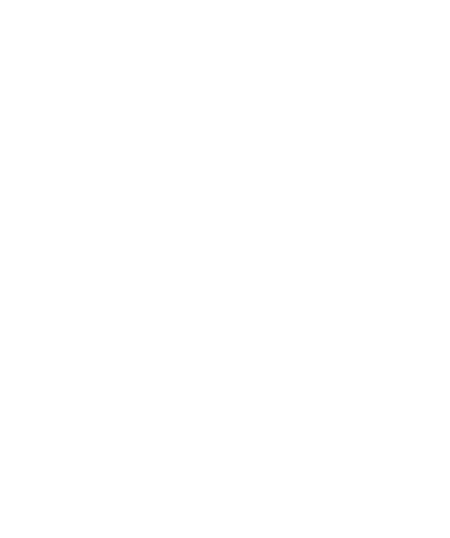Статьи
Балбир Мадхопури. С чистого листа: зарубки в детской памяти (глава из автобиографии «Обрубленное дерево»)
Аннотация
| DOI | 10.31696/2618-7302-2020-3-249-264 | |
| Авторы | ||
| Журнал | ||
| Раздел | Исторические науки и археология//Переводы и комментарии | |
| Страницы | 249 - 264 | |
| Аннотация | Публикация продолжает серию комментированных переводов с хинди из автобиографии «Обрубленное дерево» (Chāṅgiā rukh, 2002; в английской версии — Against the Night) Балбира Мадхопури, известного индийского писателя, поэта, переводчика, журналиста и общественного деятеля. Он родился и вырос в квартале чамаров-неприкасаемых в панджабской деревне Мадхопур на северо-западе Индии, прошел трудную школу жизни, но смог получить высшее образование и заняться литературным творчеством. В 2014 г. он получил высшую награду Литературной академии Индии за переводческую деятельность и вклад в развитие языка панджаби. В автобиографическом романе, включенном в программы панджабских школ и целого ряда гуманитарных вузов Индии, Балбир Мадхопури делится детскими и юношескими впечатлениями и эмоциями, определившими его мотивации к борьбе за выход из круга нищеты и бесправия. Глава «С чистого листа: зарубки в детской памяти» повествует о восторгах и обидах, надеждах и страхах, радостях и печалях, которые наполняли детство автора и его друзей в Мадхопуре в конце 1950-х — начале 1960-х гг. Рассказ о повседневной жизни деревни, о непростых взаимоотношениях ее обитателей — в основном сикхов и индусов — переплетаются с размышлениями Балбира о социальной несправедливости и кастовом неравенстве, сохраняющихся в индийском обществе и поныне. Предлагаемый читателю отрывок из автобиографии Балбира Мадхопури — третий из четырех, запланированных к публикации в журнале в 2020 г. | |
| Для цитирования: | Бочковская А. В. Балбир Мадхопури. С чистого листа: зарубки в детской памяти (глава из автобиографии «Обрубленное дерево»). Вестник Института востоковедения РАН. 2020. № 3. С. 249–264. DOI: 10.31696/2618-7302-2020-3-249-264 | |
|
|
||
| Получено | 11.11.2020 | |
| Дата публикации | ||
| Скачать DOCX Скачать DOC Скачать PDF Скачать JATS | ||
| Статья |
DOI: 10.31696/2618-7302-2020-3-249-264 БАЛБИР МАДХОПУРИ. С ЧИСТОГО ЛИСТА: ЗАРУБКИ В ДЕТСКОЙ ПАМЯТИ (ГЛАВА ИЗ АВТОБИОГРАФИИ «ОБРУБЛЕННОЕ ДЕРЕВО») © 2020 А. В. Бочковская[1] Публикация продолжает серию комментированных переводов с хинди из автобиографии «Обрубленное дерево» (Chāṅgiā rukh, 2002; в английской версии — Against the Night) Балбира Мадхопури, известного индийского писателя, поэта, переводчика, журналиста и общественного деятеля. Он родился и вырос в квартале чамаров-неприкасаемых в панджабской деревне Мадхопур на северо-западе Индии, прошел трудную школу жизни, но смог получить высшее образование и заняться литературным творчеством. В 2014 г. он получил высшую награду Литературной академии Индии за переводческую деятельность и вклад в развитие языка панджаби. В автобиографическом романе, включенном в программы панджабских школ и целого ряда гуманитарных вузов Индии, Балбир Мадхопури делится детскими и юношескими впечатлениями и эмоциями, определившими его мотивации к борьбе за выход из круга нищеты и бесправия. Глава «С чистого листа: зарубки в детской памяти» повествует о восторгах и обидах, надеждах и страхах, радостях и печалях, которые наполняли детство автора и его друзей в Мадхопуре в конце 1950-х — начале 1960-х гг. Рассказ о повседневной жизни деревни, о непростых взаимоотношениях ее обитателей — в основном сикхов и индусов — переплетаются с размышлениями Балбира о социальной несправедливости и кастовом неравенстве, сохраняющихся в индийском обществе и поныне. Предлагаемый читателю отрывок из автобиографии Балбира Мадхопури — третий из четырех, запланированных к публикации в журнале в 2020 г. Ключевые слова: Индия, Панджаб, каста, неприкасаемость, идентичность, далитская литература. Для цитирования: Бочковская А. В. Балбир Мадхопури. С чистого листа: зарубки в детской памяти (глава из автобиографии «Обрубленное дерево»). Вестник Института востоковедения РАН. 2020. № 3. С. 249–264. DOI: 10.31696/2618-7302-2020-3-249-264 BALBIR MADHOPURI. KORE KĀĠAZ KĪ GAHRĪ LIKHAT / INSCRIPTIONS ON A TENDER MIND (A CHAPTER FROM CHĀNGIĀ RUKH / AGAINST THE NIGHT) Anna V. Bochkovskaya The commented translation from Hindi of a chapter from the Chāṅgiā rukh (Against the Night) autobiography (2002) by Balbir Madhopuri, a renowned Indian writer, poet, translator, journalist and social activist, brings forward episodes from the life of low-caste inhabitants of a Punjab village in the 1960–1970s. Following the school of hard knocks of his childhood in the chamar quarter of Madhopur, a village in Jalandhar district, Balbir Madhopuri managed to receive a good education and take to literature. In 2014 he was awarded the Translation Prize from India’s Sahitya Academy for contribution to the development and promotion of Punjabi, his mother language. Narrating the story, Balbir Madhopuri shares memories, thoughts and emotions from early days that determined his motivations to struggle against poverty, deprivation and injustice. The chapter Kore kāġaz kī gahrī likhat (Inscriptions on a Tender Mind [Madhopuri, 2010]) tells readers about joys and sorrows, hopes and fears, delights and regrets that were part of his childhood in Madhopur. Scenes from everyday life in the home village, episodes highlighting complex relations between its inhabitants — predominantly Sikhs and Hindus — intertwine with Balbir Madhopuri’s reflections on social oppression and caste inequality that still remain in contemporary India’s society. This commented translation is the third in a series of four chapters from Balbir Madhopuri’s autobiography scheduled for publication in this journal in 2020. Keywords: India, Punjab, caste, untouchability, identity, Dalit literature. For citation: Bochkovskaya A. V. Balbir Madhopuri. Kore kāġaz kī gahrī likhat / Inscriptions on a Tender Mind (A Chapter from Chāṅgiā rukh / Against the Night). Vestnik Instituta Vostokovedenija RAN. 2020. 3. Pp. 249–264. DOI: 10.31696/2618-7302-2020-3-249-264 Я должен сразу, в самом начале своей автобиографии, пояснить, что люди из касты, к которой принадлежала моя семья, не обращались ни к кому за составлением гороскопов и не верили, что их жизнь может измениться к лучшему, если делать пожертвования астрологам… Поэтому, хотя по школьной метрике датой моего рождения считается 24 июля 1955 года, моя мать думает иначе. Она говорит, что я родился во вторник. И еще: в нашей касте я оказался первым во многих поколениях, кто получил возможность научиться читать и писать. «Прикрикни на это чамарское[2] отродье, гони их прочь!» — так джат-бхаи[3] в гурдваре[4] говорил всякому, кто оказывался рядом с ним во время празднования санграда, первого дня индийского солнечного месяца[5], или гурпураба, дня рождения гуру[6], когда замечал, что мы стоим на цыпочках, цепляясь за решетку на окне. Он сам в это время раздавал прасад[7] собравшимся. Мы все в ту же секунду разбегались, по дороге спотыкаясь об обувь, которой было заставлено все пространство перед входом в гурдвару. Но как только он отворачивался, мы моментально снова оказывались у окна — там же, где и были. Этот сварливый бхаи обычно носил типичную сикхскую одежду-каччха — потертую курту[8] из грубой хлопковой ткани; на голове у него кое-как был намотан тюрбан. Одежда бхаи была настолько грязной, что, казалось, сливалась по цвету с блестящей от пота кожей. Его лицо было усыпано следами оспы — как будто кто-то брызнул водой на рыхлую серую поверхность навозной лепешки. Когда он говорил в своей дерганой манере, его треугольная белая борода тряслась. Мы часто хихикали над его глазами-щелками. «Не справиться с этими помоечниками! Я сейчас их вышвырну, этих сукиных…», — и он выплевывал часть ругательства, которое мы мысленно заканчивали сами. Когда подходила наша очередь получать прасад, он ругался: «Я сколько уже раз говорил вам, подлым, чтобы спокойно на месте сидели!» А мы все же подскакивали и тянули к нему сложенные лодочкой руки, стремясь чуть продвинуться вперед и опередить друг друга. Бхаи, не наклоняясь, швырял прасад нам в руки, но мы ухитрялись ловить его на лету. Иногда кто-то из детей не успевал поймать свою долю, прасад падал на пол, и это было обидно до слез. А прежде чем успевали поднять прасад, пес Дабу, сидевший и ждавший именно этого момента, заглатывал его. Несколько раз медная мисочка, которую я протягивал для прасада, вылетала из моих рук, когда бхаи быстро — не дай бог дотронуться до посуды или детской руки! — швырял в нее маленькую порцию. И когда так случалось, чувство восторга меня тут же покидало — и надолго. Время от времени он спрашивал кого-нибудь из нас: «Эй, ты же уже получил прасад, так?» «Нет, баба[9], нет еще!» — отвечал любой, кого бы ни спрашивали, быстро проглотив прасад и вытерев руки о рубашку. По пути домой мы радостно обменивались впечатлениями и хвастались успехом: «И я тоже три раза смог!» «Не знаешь что ли этого проныру — вечно мухлюет! Тем, кто сидит внутри, дает по полной пригоршне, а нам всего щепотку», — когда я услышал эти слова проходившего мимо Массы, внутри меня щелкнуло — как выходившая на сторону гурдвары стена нашей глиняной хижины, что треснула во время землетрясения. Оставаясь один, я мысленно перемещался к гурдваре и стоял там, как будто молился; беззвучная молитва была слышна только мне. Единственной разницей между мной и хорошо одетыми девочками и мальчиками, сидевшими внутри гурдвары, было лишь то, что у меня была единственная пара штанов, чтобы прикрыть наготу; и моя кожа была темнее, чем у них. Внезапно долгая проповедь бхаи о карме[10] разворачивалась передо мной — как глубокий деревенский пруд, который я так и не осмелился переплыть… Трещина в стене нашей глиняной хижины постепенно делалась шире, и крыша еле держалась. Среди воспоминаний в памяти промелькивало невинное личико девочки моего возраста, пришедшей в родную деревню матери; она едва не расплакалась, когда собака съела мою порцию прасада. Она хотела было отдать мне свой прасад, но женщина схватила ее за маленькие косички и потащила в сторону. Девочка на ходу плакала: «Мами[11]… Мами!». Погрузившись в такие мысли, я приходил к выводу — ноги моей теперь не будет во дворе гурдвары! Что я потеряю, если не получу прасад? Мы часто видели чалую кобылу Биккара — из вали[12]. Вся наша ватага с криками бежала ему навстречу. Когда Биккар приближался к нашим хижинам, он спешивался и вел кобылу под уздцы, а она без конца махала хвостом из стороны в сторону. Мы шли за ней, мимо хавели[13] хаканов[14], нангов[15], болтунов-шейхчилли[16] — прямо до хавели лошадников-гхора[17] и заклинателей-мантри[18]. Мне ужасно хотелось запрыгнуть верхом на жеребенка, бежавшего рядом с матерью, подталкивая ее и засовывая мордочку между ее ног, иногда спереди, иногда сзади. Но мысль о причудах кармы меня не оставляла и вынуждала отказаться от этой мысли. Нередко мы с воплями отступали назад — когда кобыла останавливалась, чтобы уронить лепешку. А как-то, когда мы дошли до пруда нангов, мальчишки стали кидать в него горшечные черепки, и тут я заметил ростки мангового дерева. Их нижние листья были зелеными, нежными, а новые побеги — светло-коричневыми. Я попытался откопать один росток вместе с комом земли, но сразу не смог. Но все же постепенно, приноравливаясь, вытянул его — полностью, с корнем. И вот когда я копал лунку в нашем дворике, чтобы его посадить, Бапу[19] выхватил мотыгу у меня из рук со словами: «Мама[20], что ты стараешься равняться с джатами! У них много земли и большие дома. У нас же места тут столько, что можно лишь сесть-встать!» Мое сердце поникло — как ростки манго. Как будто ураган унес все мои лепестки-желания. Но если так, думал я, у нас тоже должно быть дерево во дворике, чтобы ласточки, голуби и попугаи могли прилетать туда как на насест и устраивать перебранку на ветвях. Я все еще был погружен в свои мысли, когда перед самым закатом появился мой друг Паш: «Гудд, там призрак на тропинке к нашему шмашану![21]» Он бежал бегом и еле перевел дыхание. Я был потрясен: «Каков он собой?» «Говорят, он — иччхадхари, может по своему желанию превращаться в человека, или козу, или змею с каури[22], или еще в кого-нибудь» — его взволнованный голос перепугал меня еще сильнее. «Кто его видел, говорит, что он превращается в карлика-садху с длинными волосами, одетого в черное». Зрачки Паша то расширялись, то сужались; лицо то бледнело, то краснело. Все эти картинки промелькнули перед моим ошеломленным взором. Я раньше слышал рассказы бабушки, да и друзья говорили, что гиены выкапывают тела умерших младенцев, поскольку их обычно не кремируют, а либо хоронят на территории шмашана, либо предают реке. Так вот почему, подумал я, у почтальона Мохана Лала всегда с собой посох со связкой колокольчиков: когда он быстро идет, опирается на посох, колокольчики звенят — они должны громко звенеть, чтобы дух испугался и ушел с тропинки! Его шапка цвета хаки напоминала мне шапку Сулеймана из сказок, которые рассказывала бабушка. Она часто повторяла: «Если надеть такую шапку, все несчастья уйдут». Той ночью меня слегка лихорадило. Мысли о призраке всю ночь крутились в голове. От страха я закрывал глаза, потом снова открывал. Огонек маленькой потемневшей железной лампы, мерцавший в стенной нише нашего дворика, пытался разогнать огромные волны страха, которые, казалось, поглотили меня. Когда пламя трепетало, мое сердце тоже замирало, и я думал: «Если бы только раздобыть шапку Сулеймана…» На следующий день я не пошел по зову природы в западную часть деревни, а вместо этого направился в близлежащее поле, после чего побежал домой. На дорожке я чуть не столкнулся с маи[23] Ишари. Хотя Ишари была согнута пополам и горбата, к счастью, она смогла удержаться на ногах, прислонившись к стене. Она не узнала меня, и я избежал серьезного выговора. «Только посмотри, как запачкал ноги! Грязнющие!» — выговаривала мама, когда отчищала меня в маленьком выложенном кирпичами закутке для мытья между входом и стеной дворика. Потом она ушла в чулан и позвала: «Сынок, иди сюда! Насыпь это зерно в подол курты, отнеси Ратте и возьми у него чайных листьев». В лавку брахмана Ратты, которая была в центре деревни, я ходил часто и наблюдал, как рано поутру джхиры-водоносы Киччхи и Пашу доставляют воду джатам, брахманам и ювелирам. Каждый ловко нес на правом плече по большому глиняному горшку, поверх которого стоял маленький. Хотя они были молодыми людьми, оба еле дышали, а спины их были по-стариковски согнуты. Они быстро шли, неся тяжелые грузы. Мне обычно хотелось швырнуть камень и разбить эти горшки, чтобы Пашу, который был старше меня всего на пять или шесть лет, смог бы избавиться от своей ноши. Его одежда была насквозь промокшей от плескавшейся в горшках воды. Чуть позже они уже бежали в сторону школы. Их отец, Диван, также носил воду многим семьям — с помощью приспособления из перекладины с двумя веревочными кольцами на концах. Он носил эту перекладину на плече, идя аккуратными шагами; при этом горшки, закрепленные в веревочных кольцах, болтались и покачивались из стороны в сторону с каждым шагом. Кто-нибудь из женщин, стоя в дверях, говорил ему: «Диван, принеси воду сначала нам: идем по печальному делу[24]». «Панча[25], еще раннее утро, что же ты уже вспотел?» — спрашивал кто-то из джатов, глядя на его пропитанную потом одежду. «Мне надо сходить кое-куда по делам, думал, что лучше начать с раннего утра», — объяснял Диван на своем диалекте маджхи[26]. Я также часто видел, как джхиры таи[27] Сибо и ее сын Джит разносят воду по домам. Колесо кармы, казалось, продолжало свое вечное движение, подобно персидскому колесу. Казалось, что новые закрепленные на колесе черпаки заполнены водой — как символ добрых дел из историй, которые рассказывает бхаи в гурдваре, а старые дырявые черпаки — пустые, как нерассказанные истории. Часто по пути в лавку и обратно я слышал, как бхаи в нашей гурдваре читает гимны из Гуру-грантх[28]. Но Бапу, бывало, говорил: «Не знаю, что этот бхаи бормочет себе под нос. Вчера начал с первым же пением петуха!» «Что ты болтаешь! Что если кто-то услышит тебя?» — мягко увещевала его мама. Моя деревня, каждый вечер исчезавшая в густой ночной темноте, вновь возрождалась к жизни, как только солнце выглядывало на востоке. Бапу несколько раз затягивался хуккой[29] и доставал свой медный стакан. К этому времени подходили сыновья моего дяди. У них тоже с собой был стакан или миска — засунутые в карман или завязанные в край ангочхи — тонкой накидки на плечах. Все они отправлялись на работу на день или на полдня. Я смотрел им вслед, а они оглядывались и с усмешкой бросали: «Для нас никогда нет посуды — у тех, к кому мы идем. Что ж…»[30] Я молча удивлялся: неграмотные, не могут и слова написанного понять, а как им удается прочитать те вопросы, что в глазах? Голова у меня все еще была занята размышлениями о призраке, расставляющем свои силки, и многие ночи проходили в этих мыслях. Завывания и плач шакалов пугали меня еще больше. Я слышал, как громко колотится мое сердце! Длинные ночные зимы, казалось, были бесконечными. Но когда наступала пора рубки сахарного тростника, шакалы уходили дальше от деревни, и их вой слышался лишь изредка. Тишину раннего зимнего утра разрывал невообразимо громкий голос Даса — Гурудаса Сингха из намбардаров[31], затягивавшего: «Джай Али! Джай Али![32]» Даже в тепле постели я вздрагивал и прижимался к старшему брату, Бирджу, спавшему рядом, и со страхом в душе возносил молитву невидимому Всевышнему. Бывало так, что забывался сном только на заре. Дас появлялся у наших хижин рано утром. Его влажные волосы обычно были распущены[33]; пышная белая борода шла ему, но он выглядел как какой-то гигант или как привидение. Он носил недлинное дхоти[34] и курту — как ниханги[35]. Как правило, в правой руке он держал железное ведро, а на левом плече — связку тростниковых стеблей. Выглядел он устрашающе, и я прятался за дверью. «Ей-богу, он выпивает целый горшок тростникового сока! С неделю назад мальчишки в лавке, где жмут сок, дали ему целый горшок, и он его весь выпил, а потом его рвать начало», — как-то, завидев Гурудаса, сообщил моему отцу Сварна, стоявший у двери своей хижины — по соседству. «Бог знает, что за дела у них в семье! Такой видный парень, а ходит к колодцу в полночь, впрягает себя вместо скотины и крутит его», — добавил Бапу. «Они захватили все земли, и где такия[36] — тоже, и потому пир[37] должен их теребить — факир-мусульманин так просто никого не отпускает», — Сварна повторил то, что часто слышал от других. «Они проводят много акханд-патхов[38], однако…», — заметил Бапу. В это время Дас подошел и остановился около них. Я наблюдал сквозь дверную щель. «Тхакара[39], я себя вымотал, кручу головой во все стороны, говорю громко, а иногда даже равновесие теряю. Пир спрашивает — почему вы разрушили мою могилу? Говорит, теперь вы должны построить мне мавзолей, каждый четверг зажигать светильники и приходить с подношениями. Но я могу все это делать, только если вся семья меня будет слушать», — Дас высказал все, что было на душе; по ходу он размахивал ведром, которое держал в руках. Если могила пира не больше существует, где он живет тогда? И как он может говорить? Он пугает людей ночью — а кого он тогда днем боится? Эти мысли крутились у меня в голове. Спустя мгновение Дас сказал: «Сварна, пойдем со мной к колодцу! Твоя выжималка[40] работает же, да? Пойдем быстрее!» «Что же вас так тревожит с раннего утра, намбардар?» — спросил Бапу. «Ей-богу, весь дрожу. Все внутри как будто горит!» Только когда Дас и Сварна уходили за последнюю хижину у баньяна, я и другие дети вышли из своих домов и, стоя на дорожке, хором завопили: «Джай Али! Джай Али!» Сварна оглянулся на нас, но Дас толком и не мог назад посмотреть. …Бапу направился к корове и буйволице, привязанным под баньяном. Поглаживая буйволицу по крупу, он выбирал присосавшихся клещей. Бросал на землю и давил каждого указательным пальцем правой руки; но иногда одна из этих зараз снова начинала двигаться. Он поднимал с земли осколок глиняной посуды, клал около правой ноги и объявлял: «Только глянь! Они прикидываются дохлыми! Сейчас я тебя!» В процессе уничтожения кровососов буйволица закрыла глаза и стала жевать жвачку. Не знаю, что нашло на Бапу, но он приказал мне: «Гудд, иди домой и принеси мои рваные штаны — они лежат в загоне для скота». Я тут же побежал за ними. «Только глянь, какой слой грязи!», — восклицал он, энергично отчищая спину животного принесенной тряпкой. «И с тебя тоже клещей уберу!», — заверил он бурую корову, глядя на нее с нежностью. Казалось, он прекрасно находил общий язык с животными. …Шли последние дни зимы. Мы с друзьями вовсю крутили волчки из сухих листьев баньяна. Дерево стояло застывшее, с голыми ветвями, а все листья лежали на земле. На ветках уже были заметны молодые красноватые побеги. В конце осени 1962 года я впервые пошел в школу. В школу я часто ходил и раньше, но только для того чтобы поиграть в прятки. Втроем — Паш, Дхъян и я — запускали персидское колесо у колодца в центре школьного дворика. Оно было не слишком тяжелым, и любой из нас мог одной рукой прокрутить целый оборот. Маленькие металлические ковшики поднимались наверх, и вода из них выливалась в корытце, наполняя его под самую кромку. Как-то, придя домой, я радостно поведал обо всем этом Бапу, а он сказал: «Это был дом-хавели Джана Мухаммада. Он и построил эти комнаты, веранды и мечеть — строил с большим увлечением». Вся наша семья слушала его с большим интересом. Я заметил, что Бапу погрустнел. Он продолжал рассказывать, как будто одновременно пытаясь что-то вспомнить. «Как-то однажды, также вечером, я побежал к Мохку в его такию, чтобы сообщить, что его Джан идет по дорожке. Все, кто там были, не поверили мне — а я тоже маленьким был тогда», — я заметил проблеск радости на лице Бапу. «Я тогда повторил им — идите и сами посмотрите. И тогда Мохку встал и побежал Джану навстречу, чтобы обнять его». Бапу произнес все это так, как будто проделал большую работу. «Он рассердился и куда-то уехал?» — поинтересовался я и увидел, как в улыбке блеснули крепкие зубы Бапу. «Нет, он был в армии во время Второй мировой войны, и о нем очень долго ничего не было известно, он и не писал никому. Все уже потеряли надежду» — похоже, история Бапу все продолжалась. «Бог мой! Как же обрадовалась Дживан! В честь его возвращения раздавала нам всем ладду[41]! Ко мне первому пришла и принесла рис — как прасад, со словами: “Именно ты принес мне весть о возвращении моего сына!”» — воспоминания Бапу понеслись как скакуны — от школьного здания к хавели Джана Мухаммада. «Младший брат Джана Мухаммада, Азиз Мухаммад, был моим близким другом», — голос Бапу потеплел, стал пониже. Его темное лицо немного расслабилось. Шелковые нити, которые он вытягивал из пряжи своих воспоминаний, теперь окутали и меня. «Все закончилось тем, что хотя где-то резня и убийства уже шли[42], вся их семья отсюда уехала без проблем. Когда они садились на грузовик, вся деревня собралась проводить их. Дживан и Мохку не скрывали слез. Азиз обнял меня и заплакал… Родное место покидать непросто», — тут Бапу замолчал. После небольшой паузы продолжил: «Когда грузовик тронулся, Азиз уставился на меня. Он был оцепеневший, как больной был. Ей-богу, он начал рыдать. Я тоже беспомощно смотрел на него. Слезы застилали мне глаза, все было как в тумане… И когда настал вечер, вся деревня погрузилась в тишину, как будто демона увидели… Подлые политики нагрузили лодки камнями». Когда наступила ночь, перед моими глазами замелькали картины убийств, прощаний, я слышал громкий плач и глубокую тишину, окутавшую деревню. Я видел джамун — гвоздичное дерево, сбрасывающее листья в школьном дворе, и мечеть, окутанную глубокими ночными тенями. И думал: почему Бапу не попыхивал своей хуккой, как обычно? И почему голос его упал? И хотя я размышлял изо всех сил, не мог найти ответа на все эти вопросы. В какой-то момент я провалился в сон. С утра и намека на эти мысли не было, как будто все из мозга стерлось. Но вечером они снова появлялись — темные и зловещие. Плотное облако страха, окутавшее мое сердце, похоже, не собиралось рассеиваться. Мои опасения, казалось, касались одного и того же. Ночи для меня в то время стали еще длиннее. Это случилось как-то вечером, когда женщины из нашего квартала отправились за травой на корм скоту, но тут же вернулись и сообщили: «В доме намбардара полиция!» Я тоже уже увидел трех высоких крепко сложенных полицейских. Впервые в жизни увидел констебля. Все они были в рубашках и шортах цвета хаки; тюрбаны тоже были цвета хаки. В руках они держали дубинки. Хотя стояло лето, на них были высокие носки, отвернутые до щиколоток — до обуви. Когда они проходили мимо, на нашей дорожке воцарилась тишина. Не было видно ни души. Женщины, прятавшиеся за нашей дверью, выглядели испуганными и измученными. Серпы и мотыги тряслись в их руках, и они шептали: «Эта Миндхо из Панахгиров — она ни с кем не сбежала. Говорят, ее разрезали на три части, засунули в мешок и забросили в колодец под хлопковым деревом»[43]. Я стоял рядом, и мои ноги от ужаса подкосились. Когда полицейские ушли, дверь открыли. «Одному богу известно, какой дурак нанял этого тиланга[44]! А тот мерзавец, что сзади, слишком разжирел, у него уже брюхо выросло, потому что сжирает то, что ему не принадлежит!» — заметил Бапу достаточно громко, чтобы все, кто был рядом, услышали его мнение по поводу констеблей, худого и толстого. Все одновременно хихикнули. Бапу продолжал: «Обнаглели! Не могли уж запрятать эту харамзади[45] где-нибудь в другом месте? У бария[46] — какая им разница! Не случайно говорят, что джат с серебряной ложкой во рту рождается[47]! Теперь те подостынут — на пожизненном в тюрьме. Гурмукх — из этих бария — разве он не держал при себе их Карми? Кого волнует, что думает Раккха Мунджи — муж Карми?» Весь день тревожные мысли метались у меня в голове — как пестрые мячики, которыми мы часто играли в детстве. Мне представлялась Миндхо — она то несла своему отцу еду, то чай, то тащила на голове тюк с травой для корма скота. Мне виделось, как она на дорожке или в закоулке разговаривает то с одним человеком, то с другим. Воображал, как ее тело разваливается на части — голова, туловище, руки-ноги. Ночью, перед тем как заснуть, я представлял себе толпу, собравшуюся у колодца под шелковицей, и полицейских, которые волокут все семейство Панахгиров к колодцу. Но когда заговаривал об этом со старшим братом, тот отвечал мне: «Помолись, тогда и сон придет!» Такого рода события переворачивали внутри меня все. В голове многое вставало с ног на голову и обратно. Все это продолжалось, пока я не услышал, как кто-то, подойдя к ткацким станкам, что располагались под баньяном, сообщил: «По радио у Дурги-брахмана говорят, что Китай нас предал, и с ним война началась[48]. Правительство объявило призыв в армию». Все были изумлены; кальянные трубки сменили свое положение. Основа на ткацких станках провисла, затем ее свернули. Видно было, как запряженные буйволами повозки направляются по домам после тяжелого дня работы в поле. От такого известия у меня в голове и во всем теле развернулось целое сражение. Казалось, тревога и страх поселились во мне навсегда. Когда я вспоминал обо всем этом, играя с друзьями под баньяном на закате или лунным вечером, на меня снова накатывали волны страха. …Как-то раз мама позвала меня мыться, но затем произошло нечто. «Говори, мама, будешь еще жевать глину?! [49]» — неожиданно Бапу схватил меня за правое запястье и опустил в колодец. Откуда взялась эта туча на чистом небосклоне? Мое дыхание замерло где-то в груди между ребер, и я слышал, как отчаянно колотится сердце. «Говори же, — продолжал он, — будешь снова жевать глину?!» Меня сковало как от удара молнии, я даже плакать толком не мог, только тяжело дышал, а сердце, казалось, выскакивало через рот. Мама в это время стирала одежду на выложенной кирпичами площадке у стенки колодца. Она все бросила, подбежала к нам и закричала: «Ты что, его вытащишь только когда дышать перестанет?!» И, стоя рядом, все повторяла: «А если ты его не удержишь и руку выпустишь?!» «Сколько раз ругал, но на него не действует!» — зло ответил Бапу. Я посмотрел на него молящим взором, а потом глянул вниз, на воду, поверхность которой была совсем близко под моими ногами. «Мальчишка так ревет, а ты…», — закричала мама и быстро вытянула меня из колодца. Я был уже еле живой. Даже среди зимнего холода я еще несколько минут обливался потом. Позже я вспоминал предыдущий сезон дождей. Тогда вода в колодце стояла на уровне земли. Уходила ниже только тогда, когда дожди ослабевали. В колодце плавали лягушки всех размеров. Я часто переживал, что они не могут выбраться из колодца. Но по вечерам у колодца прыгало и квакало немало лягушек. И тогда мне пришло в голову: а если бы Бапу меня не удержал? Смог бы я тогда выплыть из колодца — как те лягушки? Я был страшно зол на отца и думал о том, как бы ему отомстить, когда получится. Наполню его винную бутылку мочой… Или постараюсь уронить ему на руку горящий уголек из хукки, что он курит… Выходка Бапу была страшной, и каждый раз, как я вспоминал о ней, сердце снова уходило в пятки. Как будто птицу в полете подбили из рогатки. «Не стыдно тебе! Он ревет, а ты ему оплеухи отвешиваешь! Смотри, все лицо распухло!» — мама раскраснелась от ярости. Я припал к ее ногам. Я впервые видел ее в таком гневе. Она никогда не реагировала на каждодневные побои и ругань Бапу. Но ее новый облик меня потряс. Она села, прижала меня к себе и принялась вытирать слезы, лившиеся по моим щекам. Чуть позже повернулась к Бапу: «Своих привычек не видишь что ли? Сам не пройдешь мимо черепка[50] на поле, поднимешь и жуешь! А от хукки как весь рот провонял! Пошел домой!» Мамины глаза покраснели, в них появились слезы. Бапу отправился восвояси, поскользнулся и чуть не растянулся на покрытом мхом желобе-поилке Дасов, но сохранил равновесие. Пробормотал глухо: «Зараза, еще и ворчит что-то!» «Он сам таскал Гудда с собой на работу, когда тропинку в Ларою укрепляли гравием и глиной. Тот и приучился жевать глину тогда — когда играл в ямках у тропинки», — сказала мама Миндо — невестке Дасов, стоявшей рядом и глядевшей на меня. «Это укрупнение участков[51] — оно нам только горе принесло! Никакой земли мы не получили!» И спустя некоторое время продолжила: «Да уж! Как будто это наши повозки будут на мельницу ездить по той грунтовке! Вот почему эти проклятые хотели, чтобы мы заполняли рытвины землей! Они говорили: “А чем вам тогда заняться-то — целый день лодырничаете”. Но наши не уступали, на работу выходили, но только по одному человеку от дома. И говорили им, что времена бегара[52] позади», — мама гордо подняла голову. Вероятно, она хотела подтвердить, что я на самом деле приучился жевать глину за те 15–20 дней, что возился с ней у дороги. Тут Голу — из семьи Рао — схватил меня за руку, всхлипывающего, отвел к группе, игравшей под баньяном, и спросил: «Платон, скажи, где живут родственники твоей матери?» Я молчал. «Ты теперь мой друг; скажи, где живет твоя родня по матери?» «В Кандхале (деревня Кандхала-Шейкен, дистрикт Хошиарпур — моя мать была оттуда), где же еще?», — и как только я это сказал, они все расхохотались. Голу часто спрашивал меня об этом перед другими, как будто он — мадари[53], а я — его джамура[54]. Но я так и не мог понять, почему другие смеются над моими ответами. Рано по утрам Бапу отбрасывал покрывало, под которым спали мы с братом. Мама звала: «Сыночки, вставайте, солнце высоко!» Или говорила: «Гудд, сходи, принеси на кизяке угольков от Бхагатов, надо согреть воду для чая». В наших домах в очагах угли закапывают под слоем золы, чтобы снова разжечь огонь с утра. Если об этом забыть, приходится утром просить огонек у соседей. Так получалось экономить спички. Зимой, когда по утрам было холодно и стоял туман, мы садились у очага и поддерживали огонь, подбрасывая сухие листья или высохшие стебли сахарного тростника. На кухне не было ни окна, ни двери — ее устраивали около наружной стены, установив четыре опоры во дворике. Западную стену кухни делали из камыша и бамбуковых шестов, штукатурили, и она выглядела как настоящая. Крыша была не особо большой, ее тоже сооружали из камыша и бамбука. Потолок был покрыт толстым слоем сажи и копоти, и было трудно понять, из какого материала он сделан. Иногда пушистые клочки сажи под своей тяжестью отрывались от тростниковой крыши и падали на пол. Когда Бапу видел, что я процеживаю чай в свой стакан, он говорил: «Пей как есть! Сейчас не сезон дождей, чтобы вылавливать насекомых. Зимой в гуре[55] их нет!» После таких слов я проглатывал чай как воду, но перед глазами у меня так и стояли белые насекомые в чае, который в дождливый сезон мама процеживала через краешек своей дупатты[56]. На черных чаинках виднелись белые разбухшие личинки. Зимой на улице у нашего дома разводили костер. Вокруг него собирались все — и стар и млад — и поддерживали огонь тем, что приносили с собой из дома. Тех, у кого ничего не было для розжига, выпихивали подальше от тепла, которое давал огонь. Мы сначала согревали ледяные ноги у костра, а затем бежали к школьному зданию. Мы все ходили босиком. Зато на каждом из детей заминдаров[57] было по два свитера. Я думал: дал бы кто-нибудь хоть один свитер, мне хватило бы, чтобы согреться. Затем цепочка моих мыслей прерывалась, и я присоединялся к громкому пению детей: Солнышко, дощечку[58] мне подсуши, Если не сможешь, домой уходи! Спустя пару мгновений я снова раздумывал о своих полосатых штанах и курте, больше подходивших чтобы вытирать нос, чем защищать от холода. Мою одежду стирали только по воскресеньям. Я сиживал у стены рядом с кормушкой для скота и выбирал вшей из складок одежды — и сколько времени так проходило! Уставал, шея начинала болеть. Мама отмывала меня у колодца, терла мои ступни, приговаривая: «Только глянь, сколько слоев грязи!». Но я особой разницы не видел между ногами и грязными ступнями. Потом, когда выныривал из своих размышлений, слова «солнышко, дощечку мне подсуши» все еще были слышны, хотя уже совсем тихо. Выходя из раздумий о прошлом, я наблюдал, как Кхушия, Бхима или его младший брат Пьяри (которого вся деревня звала Ашик — влюбленный — из-за темного цвета кожи, хилого телосложения и странной походки) тащат мимо школьного здания мертвого теленка. В те времена погибало много коров, телят и даже волов. Джаты продавали своих старых буйволиц на рынке. Чамары связывали ноги умершего животного вместе, продевали снизу толстый шест и затем клали его себе на плечи, чтобы было легко идти. Животное болталось вниз головой, раскачивалось из стороны в сторону, а его уши и шея дергались с каждым шагом. Крупную падаль отволакивали вчетвером или впятером, давая друг другу указания: «Пьяри, тяни как следует! Ты всю тяжесть на меня сваливаешь!» Они тащили шест с привязанным к нему трупом так, что их головы и туловища наклонялись вперед, их собственный вес переносился на ступни, а колени сгибались. Время от времени один из них вставал впереди, чтобы тянуть тяжелую ношу. Они останавливались передохнуть и вытирали пот со лба с помощью ангочхи, висевшей на плечах. Мы же, наблюдая за ними, дрожали от зимнего холода. Иногда во время перерыва другие дети из нашей касты присоединялись к Бхиме и его помощникам. Когда труп животного волокли, его рога оставляли за собой длинный тянущийся след. Глаза были вытаращены, пасть открыта, зубы оскалены, а нижняя челюсть выдавалась вперед. Я часто придерживал голову мертвого животного, чтобы она не болталась, — не хотел, чтобы обдиралась. Часто павшее животное увозили, погрузив на открытую повозку, а мы, дети, ее подталкивали сзади. Когда потом возвращались домой, собирали на окрестных полях желтые цветы горчицы. Я видел, что обычно после того, как попью воду из крана, тот из детей-джатов, кто подойдет следующим, сначала хорошо его помоет — очистит — и лишь потом попьет тоже. Я часто задумывался, что не так у меня с руками — почему другим надо мыть кран после моего прикосновения? Потому что я трогал животных? Но и они тоже часто хвосты крутили тем же животным, пока те были живыми. Когда люди из нашей касты уносили мертвое животное, женщины-джатти[59] брызгали им вслед водой и, произнеся слова молитвы, освящали внутренний дворик в хавели. Я думал, что, наверное, это какое-то колдовство. Но кому они это все говорили? Умершему животному? Тем, кто его убирал? Или самим себе? Казалось, что мысли мои переплетаются — подобно запутавшимся нитям на прядильном станке, и никак не получается с ними разобраться. Масса нередко сиживал рядом с умирающей коровой или волом и громко читал из «Гиты»[60]. Животное корчилось от боли, брыкалось, а Масса пытался его успокоить: «Уже почти все… Гати[61] вот-вот наступит…» «Бхаи Масса, сколько же пользы он принес!» — как-то, когда его вол умер, грустно произнес Удхам Сингх, отец Икбала Сингха. Но Масса молча вскинул на спину мешок с пшеницей и ушел. Сидя за своим ткацким станком и ведя разговоры, Масса, казалось, был даже более всеведущ, чем бхаи в гурдваре, и производил впечатление на собеседников цитированием «Махабхараты» и «Рамаяны»[62], гимнов гурбани[63], а также своим толкованием их. Я часто стоял около него, и он меня просил: «Гудд, подложи угольков в кальян». Но когда бы разговор о нем ни заходил у нас дома, Бапу тут же заявлял: «Он вечно говорит о чем-то непостижимом. Ведет себя так, будто только что с Всевышним беседовал. Кто-нибудь спросил бы его, видел ли кто-то когда-то Всевышнего?» Я слушал его слова, и иногда мне казалось, что он прав, а иногда — что Масса. Думал — а что, в самом деле животные быстрее перестают мучиться, если прочитать молитву? Они понимают панджаби или хинди? Гати имеет несколько значений — и искупление, и скорость. Мне думалось, что второе важнее. Все это казалось очень запутанным, как завитушки джалеби[64], с которыми не поймешь, где они начинаются и где заканчиваются. Мои мысли метались в поисках ответов на вопросы, но ответов не находилось. Казалось, что среди ясного солнечного дня наступали сумерки. «Выходите все! Все — и старые, и малые! Все выходите в поле! Колотите во все, что можете, — в жестянки, в подносы! Саранча летит! Спасайте кукурузу!» На рассвете меня разбудил громкий крик чоукидара[65] Джагара, и я тут же выскочил из дома. Он сплющил старую ржавую жестянку непонятного цвета, колотя по ней толстой палкой из ветки шелковичного дерева. Быстро прошел по центральной дорожке, стуча в барабан, и затем скрылся из виду, но его громкий призыв — «Кукурузу спасайте, братья!» — по-прежнему было слышно. Это был 1963 год, и я учился тогда во втором классе. Люди группами побежали на поля. Мы с Бапу и старшим братом схватили что подвернулось под руку и побежали по тропинке к ближайшему полю — полю Албалалланов — где принялись колотить в жестянки, подносы, металлические тарелки. Мы удобрили половину принадлежавшего им поля навозом от наших животных и посеяли там кукурузу. Она взошла, и ее побеги — ярко-зеленые и очень нежные — уже были высотой сантиметров в двадцать, а некоторые и повыше. Мы только накануне взрыхлили землю между рядами. Всюду, куда ни падал взгляд, летала саранча — от южной окраины деревни до северной, что была повыше. Лучи только что вставшего солнца еле пробивались через полчища насекомых. Всюду, где останавливались, они пожирали все — посевы кукурузы, баджры[66], траву на пастбищах и даже листья палисандрового дерева. Как только они садились на какую-то поверхность, они откладывали белые яйца, похожие на рисовые зернышки. Вонь стояла такая, что желудки, даже пустые, выворачивались наизнанку. Сам вид саранчи был омерзителен, и тот, кто случайно наступал на нее, испытывал крайнее отвращение. «Ну я тебе задам, зараза!» — выдохнул Бапу, пытаясь руками отбиваться от насекомых, сновавших перед самым лицом. Тут я начал изо всех колотить палкой по своему тхали[67]. И задумался: если саранча несется с такой скоростью, как чоукидар Джагар успел узнать о ее наступлении? Солнце уже поднялось довольно высоко. Мы быстро уничтожили остатки саранчи, отставшие от основной стаи. Тут же появилось несметное количество муравьев, которые принялись поедать и растаскивать мертвых насекомых. Такие отряды саранчи напоминали мне самолеты, взлетавшие из аэропорта в Адампуре[68]. Длинные черные полоски на длинных желтых брюшках саранчи выглядели очень симпатично. Люди уже возвращались домой. Когда мы подошли к перекрестку около дома намбардаров, тайя[69] Банта завел разговор: «Когда у тебя будет четыре мана[70] зерна, сардар-джи[71], тогда и у нас дома тоже будет зерно — десять серов[72]». «Слава богу, ущерб невелик», — кто-то ответил. «Спасибо бхаи Джагару! Как только из полицейского участка сообщили, Джагар сразу начал бить в барабан», — сказал тайя Банта. «Говорят, в участок пришла радиограмма из Джаландхара[73]». «Когда саранча напала в 1950 году, после раздела, она сожрала даже листья на всех деревьях — они стояли абсолютно голые. Этот налет ничто по сравнению с теми! Говорят, в те времена даже где-то приходилось останавливать поезда», — тайя пытался вспомнить историю событий. Я шел рядом и смотрел на их унылые лица. Они перебрасывались словами, расходясь по домам. «Сынок, давай, собери сухих веток. Костер разожжем», — тайя Банта прервал разговор и подмигнул мне. Я подумал, что, наверное, он хочет закурить трубку, что лежала у него в кармане. Мы с его сыном Кхушией принесли сухого хвороста, а Банта тем временем собрал валявшиеся вокруг клочки соломы и сена, положил на них ветки и поджег. Огонь вспыхнул, а когда прогорел, он развязал узел на конце своей ангочхи — там была мертвая саранча. Он бросил насекомых на костер, поворошил веткой и сказал: «Жуйте! Они поджарились!» Я уставился на тайю. Он взял поджаренную саранчу в рот и, протягивая мне другую, повторил: «Жуй-жуй! Она без костей». Затем со смешком добавил: «Я в своей жизни немало костей сгрыз!» С опаской я съел одну саранчу. Она оказалась солоноватой и очень вкусной. Тогда я сам сдвинул угольки прутиком и принялся за трапезу. Руки и рот Кхушии тоже продолжали работать. История о том, что я ел саранчу, стала известна всей школе, и дети меня дразнили: «саранчеед!» или: «змей-саранчеед!» Змей — вероятно, потому что у меня очень темная кожа. Позор свалился на меня тяжелым грузом, и, как я ни старался, избавиться от него не получалось. История с жареной саранчой то казалась мне отвратительной, то совсем нормальной и обычной. Я задавал себе вопрос: ведь же во время дивали[74] или дашеры[75] баранину все едят — и почему никто никому ничего не говорит? Однако через несколько дней и эти мысли улетели — как и саранча… Я освободился от своего маленького, но ужасного груза и снова носился за бабочками днем, а по ночам — за мерцающими светлячками. Литература / References Madhopuri B. Chāṅgyā Rukkh (Ātmakathā). New Delhi, 2007. Madhopuri B Chāngiā Rukh (Svaijīvanī). New Delhi, (2002) 2017. Madhopuri B. Changiya Rukh. Against the Night. An Autobiography. New Delhi, 2010.
|